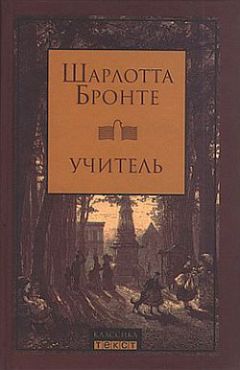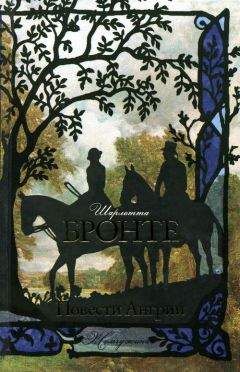Шарлотта Бронте - Секрет (сборник)
Закончив петь, Лили подошла к ним и с улыбкой заметила:
— Полковник, вы слишком потакаете ему, смотрите, еще испортите моего сына. Он уже проявляет все признаки своеволия и необузданности нрава, свойственные…
— Мне, мадам, мне, кому ж еще! — расхохотался полковник. — Этого я и добиваюсь. Если к спокойной мудрости своего батюшки ваш сын добавит толику моей порывистости, чего еще желать?
Лили собиралась ответить ему в той же шутливой манере, когда прямо над их головами раздался громовой раскат.
— Гроза усиливается, — заметил мистер Сеймур. — Не позавидуешь тем несчастным созданиям, которых ненастье застало в дороге.
Не успел он закончить свою речь, как раздался стук колес, за коим последовал оглушительный звон колокольчика и яростный стук дверного молотка, иллюстрирующий справедливость его слов. Вслед за этим в гостиную вошел слуга и доложил, что господин и две дамы, прибывшие в открытой коляске, просят приюта.
— Разместите их в столовой, — велел мистер Сеймур.
— Там не натоплено, сэр, — сказал слуга, — а они промокли до нитки.
— Тогда ведите их сюда. Вряд ли они нас знают, Адриан, — заметил он, обернувшись к полковнику, — так что опасаться нечего.
Послышались шаги, дверь отворилась, и в гостиную вошел надменный джентльмен лет шестидесяти, весьма грозного вида, с залысинами на высоком лбу, окаймленном остатками седой шевелюры, орлиным профилем и колючим взглядом пронзительных серых глаз. За ним следовала дама, уже пересекшая жизненный меридиан, но мягкость черт и синева глаз выдавали редкостную красавицу, коей та наверняка слыла в молодости. Завершала процессию высокая стройная девушка. Обе дамы были облачены в бархатные накидки, отороченные горностаем, но сейчас пышные одежды насквозь промокли и свисали с плеч, словно тонкая тафта.
Изумление, охватившее Персиваля и мистера Сеймура при появлении величественного трио, было таким неподдельным, что Лили оставалось теряться в догадках. Первый вскочил, просиял и воскликнул:
— Наконец-то, хвала небесам, настал день, когда тайные помышления всякого сердца станут явными! Не трусь, Джон, будь мужчиной. Не смей лгать и изворачиваться, очисти душу — а там будь что будет!
Судя по виду мистера Сеймура, тот весьма нуждался в подобном напутствии. Он поднялся с кресла, решительно скрестил руки на груди и встал прямо напротив двери.
— Что это значит, милорд маркиз? — вопросил старый джентльмен, строго глядя на полковника Персиваля. — Что вы здесь делаете вместе с моим сыном и кто эта женщина?
— Эта женщина, августейший отец, — почтительно, но твердо отвечал мистер Сеймур, — моя бесценная супруга Лили, маркиза Фиденская. Я короновал ее своею короной три года назад. Рядом с нею мой сын и ваш внук Джон.
Появление тысяч бестелесных духов не ввергло бы царственную чету в большее изумление, чем эти простые слова. Наконец, после нескольких минут молчания, в течение которых он не сводил глаз с сына, Александр изрек:
— Не надейтесь, что я стерплю подобное. Эта самонадеянная женщина должна немедленно вернуться туда, откуда вы столь злонамеренно ее извлекли, пока вы не представите доказательства того, что ваш брак законен, а также того, что вы были обвенчаны главой нашей церкви, ибо только он имел право венчать принца крови.
— Я могу засвидетельствовать перед вашим величеством, — отвечал полковник Персиваль, или не кто иной, как маркиз Доуро, как отныне нам надлежит его величать, — что три года назад Джон, принц Фиденский, был обвенчан с Лили Харт самим архиепископом Мрачуном, в часовне, что стоит в саду, окружающем ваш дворец на берегу Нигера. Я был там и сам вел невесту к алтарю.
При этих словах, произнесенных храбрым маркизом самым бесстрастным тоном, кровь бросилась в лицо Александра. Мне неведомо, что он намеревался сказать или сделать, но тут королева и старшая дочь короля леди Эдит (читатель наверняка узнал сих достойных дам) бросились к ногам надменного монарха и стали умолять его простить сына, доселе ни разу не позволявшего себе идти поперек отцовской воли, и вновь даровать ему свое монаршее благоволение, ибо сделанного не воротишь.
Лили, дрожащая как осиновый лист и бледная, словно ее цветочная тезка, лилия, присоединила свой голос к их мольбам. Однако Александр был не склонен следовать уговорам и уже готовился дать волю гневу, но тут маркиз Доуро шагнул вперед и прошептал в царственное ухо:
— Правитель гор, вы можете отречься от сына, но где вы возьмете другого, столь же достойного унаследовать корону и трон? Королевский род прервется, а царственный скипетр достанется чужеземцам.
— Вы правы, — согласился Один из Двенадцати. — Итак, принц Джон, вы прощены, однако не из милосердия, а в силу необходимости. Будь у меня еще один сын, неповинный в небрежении отцовской волей, я, не дрогнув, отрекся бы от вас, а равно вашей жены и сына на веки вечные.
Принц оставил без ответа слова венценосного отца, лишь низко склонился перед монархом и, подняв с колен жену, произнес с гордостью, не уступающей надменной манере короля Александра:
— Отныне, моя Лили, вы займете подобающее место в том кругу, коему предназначила вас природа, и если кто-то посмеет обидеть вас хоть словом, хоть жестом, то он умрет сей же час!
В следующий понедельник маркиза Фиденская впервые предстала перед публикой на балу, данном в ее честь в резиденции свекра, дворце Элимбос. Автору довелось там присутствовать, и он готов засвидетельствовать, что Лили Харт, дочь бедной вдовы, ничуть не уступала красотой и благородством манер самым титулованным обитательницам Витрополя.
Картинки из альбома[73]
Ясный, жаркий, душный день. Я в городском особняке Торнтона. Обед недавно закончился, и генерал, как всегда в это время, устроился подремать. Покуда мягкий вечерний свет озаряет его мирное чело, в доме царит дух тишины и спокойствия.
Чем мне себя развлечь? Я не смею шелохнуться, чтобы не потревожить его сон; пробуждение в такой час чревато для меня тяжкими последствиями — ничто так не раздражает этого обыкновенно мягкого человека. Чу! Моего слуха коснулся легкий, в высшей степени музыкальный храп; генерал крепко скован цепями Морфея. Что ж, попытаю счастья. На комоде у противоположной стены лежат три книги in quarto, похожие на альбомы с гравюрами. Зеленые корешки с золотым тиснением манят; я попробую до них добраться.
Легкими, как зефир, шагами я крадусь к комоду, хватаю добычу, по-кошачьи пробираюсь назад в кресло и открываю книгу — проверить, стоила ли она таких трудов.
Могучий призрак вызвал я своим заклинанием: волшебное зеркало туманит ужасающий образ! Читатель, я зрю перед собой бренное обиталище непостижной души Нортенгерленда! Вот он: неужто этот сосуд вылеплен из грубой земной персти? Неужто этот цветок взошел на смрадной почве людского бытия? Сосуд безупречен: его гладкую поверхность не портят ни пятнышко, ни царапина. Цветок раскрылся во всей красе, но еще ни один лист не увял, ни один лепесток не поблек. Портрет сделан до того, как свет и тень двадцати пяти весен легли на запутанный лабиринт жизненной тропы Перси. Перси! Никогда еще человеческая оболочка не бывала столько прекрасна. Взгляд завороженно скользит по классическим очертаниям лица и фигуры; ни один уродливый изгиб или угол не портят их утонченную правильность; все словно вырезано из слоновой кости. Плоть и кровь чересчур грубы для этой скульптурной точности. Восхищение охватывает меня при виде античного носа, как будто изваянного Фидием, точеного подбородка и губ, являющих собой безграничное совершенство формы, высокого бледного лба, не лысеющего, как сейчас, но и не затененного кудрями: густые волосы зачесаны назад, обрамляя виски пышным венком и оставляя открытым чело, отмеченное печатью ума, равного которому не ведал мир. Выражение лица задумчиво и сосредоточено; лишь в насмешливом изгибе губ и странном блеске глаз, чей взор — смесь острейшего презрения и глубочайшей мысли, от которых стынет кровь, — сквозит убийственный сарказм. На мой взгляд, в этом портрете воплотилось все, что мы знаем о падшем архангеле Люцифере: полнейшее отсутствие человеческих чувств и сострадания, ледяная гордыня, бесконечная сила ума, бесстрастная и в то же время совершенная красота — не буйный живой пламень мыслей и чувств, как у некоторых других, кого может припомнить читатель, — а выверенный расчет, хладный, твердый и безупречный, как ограненный алмаз. В алой влаге, что струится по жилам Нортенгерленда, есть черная примесь, отравляющая сердце, так что здесь, в этой цитадели жизни, славная кровь рода Перси превращается в горькую ядовитую желчь. Оставим же его, осиянного красой, омраченного злодеяниями. Прощай, Перси!
Я переворачиваю страницу и вижу… его графиню! Какие глаза! Какие смоляно-черные кудри! Какие внушительные очертания лица и фигуры! Она воистину величава в своем бархатном платье и тюрбане с черными перьями. Владетельница Элрингтон-Хауса, супруга Нортенгерленда, примадонна ангрийского двора, самая образованная женщина своей эпохи, современная Клеопатра, витропольская мадам де Сталь — одним словом, Зенобия Перси! Кто бы подумал, что эта царственная дама способна на приступы неуправляемой страсти, в которые частенько впадает ее сиятельство? В глазах есть огонь, в бровях читается властность, в изгибе полных губ угадывается некая спесь — но все это настолько смягчено женственным достоинством, что мнится — ни пламень чувств, ни гордыня, ни желание повелевать не в силах разбудить вспышки неукротимого гнева, нередко уродующие ее красу.