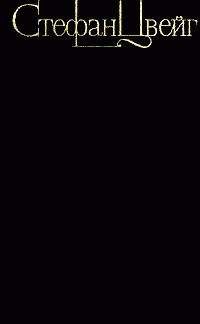Стефан Цвейг - Нетерпение сердца
Я невольно протянул Балинкаи руку.
— Искренне благодарю тебя за предостережение. Теперь мне ясно, что меня ждет. Но даю тебе слово, у меня нет другого выхода. Ты действительно ничего не можешь предложить мне? Ведь вы, наверное, ведете крупные дела?
Балинкаи помолчал несколько секунд, потом сочувственно вздохнул.
— Бедняга, тебя, кажется, здорово припекло! Не бойся, я не буду тебя допрашивать, я и сам уже вижу, что к чему. Когда дело заходит так далеко, не помогают никакие уговоры. Остается лишь помочь, как товарищ товарищу, а за этим дело не станет, можешь не сомневаться. Только одно, Гофмиллер: надеюсь, ты парень рассудительный и понимаешь, что я не смогу сразу же подыскать тебе завидное местечко. Так дела не делаются, других только озлобит, если какой-то чужак ни с того ни с сего вдруг прыгнет через их головы. Ты должен начать с самых низов, тебе, может быть, придется несколько месяцев заниматься дурацкой писаниной в конторе, прежде чем удастся послать тебя на плантации или придумать что-нибудь еще. Во всяком случае, как я уже сказал, я проверну это дело. Завтра мы с женой уезжаем в Париж дней на восемь-девять, потом съездим ненадолго в Гавр и Антверпен, проверим работу агентов. Но не позднее чем через три недели мы вернемся домой, и, как только прибудем в Роттердам, я сразу же напишу тебе. Не беспокойся — я не забуду! На Балинкаи можешь положиться.
— Не сомневаюсь, — сказал я, — и очень благодарен тебе.
Но Балинкаи, видимо, почувствовал в моем тоне легкое разочарование. (Наверное, с ним случилось нечто подобное — только собственный опыт помогает улавливать такие оттенки.)
— Или… это будет слишком поздно для тебя?
— Нет, — нерешительно начал я, — раз уж я знаю это наверняка, тогда, конечно, нет. Но… но для меня все-таки было бы лучше, если б…
Балинкаи что-то быстро обдумывал.
— А сегодня у тебя не найдется времени?.. Видишь ли, моя жена еще в Вене, и поскольку дело все-таки принадлежит не мне, решающее слово остается за ней.
— Ну, разумеется, я свободен, — поспешил заверить я. Мне как раз вспомнилось, что полковник не желает видеть мою «физиономию».
— Вот и хорошо! Замечательно! В таком случае тебе лучше всего поехать сейчас со мной. Место рядом с шофером свободное. К сожалению, сзади не могу тебя посадить, так как я пригласил моего старого друга барона Лайоша с семьей, он из здешних. В пять часов мы уже будем у подъезда «Бристоля», я сразу переговорю с женой, и все будет сделано: еще не было случая, чтобы она отказала мне, когда я просил за товарища.
Я пожал ему руку. Мы спустились вниз. Механики уже сняли свои синие рабочие куртки, машина была готова и через несколько минут затарахтела по шоссе.
Скорость оказывает одинаковое воздействие на душу и тело — она возбуждает и оглушает одновременно. Едва наша машина вырвалась из узких улиц на простор полей, как я почувствовал удивительное облегчение. Шофер гнал вовсю; словно подрубленные, падали назад деревья и телеграфные столбы, дома, шатаясь, налезали друг на друга, точно на смазанной фотографии, белые километровые камни то и дело появлялись по сторонам и исчезали прежде, чем можно было прочесть цифры, и по тому, как яростно бил в лицо ветер, я ощущал бешеную скорость, с которой мы мчались вперед. Но еще большее удивление вызывала во мне та быстрота, с которой сейчас летела куда-то моя собственная жизнь: какие только решения не были приняты за эти несколько часов! Ведь обычно между смутным желанием, неопределенным замыслом и его окончательным исполнением едва уловимо мелькают бесчисленные оттенки противоречивых чувств, и наше сердце находит удовольствие в робком заигрывании с намерениями, осуществить которые оно пока еще не решается. Но в этот раз все налетело на меня со стремительностью сменяющих друг друга сновидений, и, как по обеим сторонам нашего авто проносились мимо дома и села, деревья и луга, окончательно и безвозвратно оставаясь позади, точно так же в один миг исчезло все, что до сих пор составляло мою жизнь, — казарма, манеж, карьера, товарищи, Кекешфальвы, их усадьба, моя комната, все мое существование, казавшееся таким устойчивым и упорядоченным. Один-единственный час перевернул весь мой внутренний мир.
В половине шестого мы остановились у отеля «Бристоль», разбитые тряской, с ног до головы в пыли и все-таки удивительно освеженные этой гонкой.
— В таком виде тебе нельзя появляться перед моей женой, — смеясь, сказал мне Балинкаи. — На тебя словно вытряхнули мешок муки. И потом, лучше я сам поговорю с ней, мне это удобнее, да и тебе не придется смущаться. А ты сходи в гардеробную, хорошенько почистись и жди меня в баре. Я вернусь через несколько минут и сообщу тебе результаты. Не волнуйся. Я сделаю все, как ты хочешь.
И действительно, Балинкаи не заставил себя долго ждать. Через пять минут, он, улыбаясь, вошел в бар.
— Ну что, разве я не говорил? Все в порядке — конечно, если тебя это устраивает. Можешь размышлять сколько угодно и отказаться в любую минуту. Моя жена — вот уж действительно голова! — придумала самый лучший вариант. Итак: ты отправишься в плавание, выучишь языки и посмотришь, что делается за океаном. Будешь помогать казначею вести счета, получишь форму, обед в кают-компании, в общем, сделаешь несколько рейсов в Голландскую Индию. Ну а потом уж мы найдем тебе место, здесь или за океаном, как ты пожелаешь, жена твердо обещала мне это.
— Благо…
— Благодарить не за что. Само собой разумеется, я выручу тебя, разве может быть иначе. Но прошу, Гофмиллер, не руби сплеча! По мне, ты можешь отправляться на судно хоть послезавтра, я все равно дам телеграмму капитану, чтобы он записал тебя; и все-таки тебе не помешает еще раз хорошенько все обдумать. Я лично был бы доволен, если бы ты остался в полку, но chacun a son gout[26]. Как я уже сказал, приедешь — значит, приедешь, а нет — так нет. Итак, — он протянул мне руку, — да или нет, как бы ты ни решил, я искренне рад оказать тебе услугу. Привет!
Я с восторгом смотрел на этого человека, которого послала мне судьба. Легкость, с какой он думал и действовал, освободила меня от самого тяжелого: от просьб и мучительных колебаний. Так что мне самому осталось только выполнить небольшую формальность: написать прошение об отставке. Тогда я свободен и спасен.
Так называемая «канцелярская бумага» — лист строго определенного формата, раз и навсегда установленного соответствующим предписанием, — была, вероятно, самым необходимым реквизитом австрийского бюрократического аппарата, как гражданского, так и военного. Всякое прошение, всякий деловой документ или донесение полагалось составлять на этой аккуратно обрезанной бумаге, которая благодаря уникальности своей формы сразу же отделяла все служебное от личного; огромные залежи миллионов и миллиардов таких листков, хранящихся в архивах, вероятно, явятся когда-нибудь единственно достоверной летописью жизни и страданий габсбургской империи. Никакой официальный документ не признавался действительным, если не был написан на белом прямоугольном листке. И поэтому первое, что я сделал, — зашел в ближайшую табачную лавку, купил два таких листа, в придачу так называемую «лентяйку» (разлинованную бумагу, которую подкладывают вниз) и соответствующий конверт. Теперь перейти через улицу в кафе — место, где в Вене улаживают все дела, от самых серьезных до самых легкомысленных. Через десять минут, к шести часам, прошение будет написано: тогда я снова буду принадлежать самому себе, и только себе.
Память с поразительной ясностью сохранила каждую мелочь — ведь принималось самое важное решение в моей жизни. Я помню маленький круглый мраморный столик и кафе на Рингштрассе, помню картонную папку, на которую я положил бумагу, и как я осторожно разглаживал линию сгиба, чтобы она была безукоризненно ровной. Словно на контрастном фотоснимке, вижу я сейчас перед собой иссиня-черные, немного разбавленные чернила и ощущаю тот легкий внутренний толчок, с которым я начал выводить первую букву, стараясь, чтобы она выглядела изящно и значительно. Мне очень хотелось особенно тщательно выполнить эту мою последнюю служебную обязанность: а поскольку форма прошения была с математической строгостью определена уставом, торжественность момента можно было выразить только красотой почерка.
Но не успел я написать несколько строк, как мной овладела какая-то странная мечтательность: держа в руках перо, я начал воображать, что будет завтра, когда мое прошение получат в полковой канцелярии. Сначала, наверное, озадаченный вид фельдфебеля, потом удивленное перешептывание младших писарей — ведь не каждый день случается, чтобы лейтенант так просто отказывался от своего жалованья. Потом бумага следует по инстанции из комнаты в комнату и наконец попадает к полковнику; я вдруг вижу его перед собой как живого, — вот он вооружает свои дальнозоркие глаза очками, недоуменно перечитывает первые слова, а затем, как всегда, бьет кулаком по столу, — этот грубиян слишком привык к тому, что его подчиненные, которых он облил грязью с ног до головы, на следующий день угодливо виляют хвостом, как только он даст им понять развязным словечком, что гроза миновала. Но теперь он увидит, что коса нашла на камень, что есть такой человек, который не позволяет орать на себя, и этот маленький человек — лейтенант Гофмиллер. И когда станет известно, что Гофмиллер распрощался с полком, двадцать, а то и сорок однополчан призадумаются, качая головами. Все товарищи мысленно скажут: «Черт возьми, вот это парень! Он за себя постоит!» И даже полковника Бубенчича это крепко заденет за живое — как-никак более достойно еще никто не уходил из полка, никто еще не сбрасывал с себя мундир подобным образом, насколько мне известно.