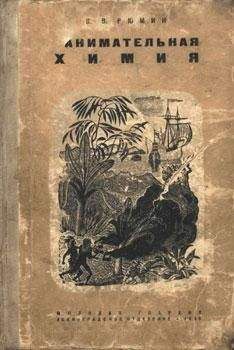Лев Овалов - Медная пуговица
В общем, все, о чем она рассказывала, было известно, и она мало отклонялась от истины.
Судебное разбирательство шло к концу.
Председатель суда, пожилой полковник в очках, бросил на меня вопросительный взгляд и больше для проформы спросил:
– Имеете что-либо добавить?
Я покачал головой:
– Нет, что же… Все правильно…
Да, все, что говорила Янковская, было правильно, и тем не менее она уходила от ответственности. Да, собирала информацию для одних, для других, мне даже спасла жизнь, во всяком случае после ее рассказа могло создаться такое впечатление, и если бы не покушение на Лунякина, которое она склонна была объяснить своей экзальтированностью, она могла бы даже рассчитывать на снисходительный приговор…
Но снисходительное отношение к таким преступникам – глубочайшая несправедливость по отношению к тысячам невинных людей, которыми играют и жертвуют себялюбивые и циничные личности вроде Янковской ради удовлетворения своих корыстных интересов!
– Правильно, – повторил я. – Но…
Председатель взглянул на меня.
– Госпоже Янковской следовало бы сказать о своем сотрудничестве с профессором Гренером, – сказал я. – Это сотрудничество заслуживает внимания суда!
– Суд не должен интересоваться моими отношениями с этим человеком! – запальчиво перебила меня Янковская. – Никто не имеет права касаться моей интимной жизни!
Ей очень, очень хотелось скрыть некоторые стороны этой жизни!
– А дети? – задал я ей вопрос.
– Что «дети»? – переспросила она.
– Дети, которых вы доставляли профессору Гренеру для его преступных экспериментов?
– Что-что? – переспросил председатель суда.
И я рассказал суду обо всем, что мне довелось видеть в оккупированной Риге.
И о повешенных на бульварах, и о подростках, угоняемых в Германию, и о детях на даче Гренера, и о том, что Янковская самолично отбирала детей для опытов своего ученого поклонника…
Председатель суда склонился над столом и принялся заново перелистывать следственное дело.
– Преступление против человечности, – сухо заметил он и повернулся к Янковской. – Что вы можете сказать по этому поводу?
Но у Янковской хватило храбрости усмехнуться.
– Макаров все это говорит из ревности, – сказала она, щуря свои дерзкие глаза. – Они с Гренером постоянно ревновали меня друг к другу…
Тут Янковская внезапно поднялась, какими-то совершенно умоляющими глазами посмотрела на своих судей и протянула ко мне руки:
– Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся! Не обижайтесь на меня! Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами вместе?..
И я, правду сказать, смутился…
Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки.
Янковская не замедлила разъяснить сказанное.
– Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости, – обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня своими кошачьими глазами. – Только он спешит уйти от ответственности!
Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки:
– Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что Макаров – такой же шпион, как и я, – отчетливо произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом. – И даже чуть покрупнее!
Янковская замолчала.
– Мы вас слушаем, – поторопил ее председатель. – Говорите-говорите!
– Он заслан сюда заокеанской разведкой, – с каким-то отчаянием произнесла Янковская.
И принялась рассказывать о моем свидания с господином Тейлором, о том, что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и что это я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывавшегося у меня под фамилией Чарушина… Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с собой.
– Чем вы это можете доказать? – холодно спросил председатель.
– Спросите его! – с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы нанося мне удар. – Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету лежат пятьдесят тысяч долларов?
Все-таки она была убеждена, что деньги – это самое главное в мире!
Она привела факты и думала, что мне от них никуда не деться, но я даже не успел обратиться к суду.
– Вы можете быть свободны, товарищ Макаров, – повторил председатель с неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то теплота. – Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом Тейлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя… – Председатель назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее: – Что касается денег, они были получены, по поручению товарища Макарова, и даже израсходованы, но только не на его надобности…
Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я могу удалиться. Я пошел к выходу.
– Андрей Семенович! – внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос Янковской. – Все это неправда, неправда! Я все это говорила для того, чтобы вы разделили мою судьбу… Потому что… Да обернитесь же! Потому что я вас любила…
Но я не обернулся.
Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи, но я хорошо знал, что и эти ее последние слова – такая же невозможная ложь, как и вся ее жизнь.
Эпилог
Вот, пожалуй, и все.
Сравнительно много времени прошло с тех пор, но из памяти никак не изгладятся события, описанные мною в этой рукописи.
Окончилась война, я встретился с девушкой, которую любил. Получив известие о моей гибели, она не поверила в мою смерть, а если немного и поверила, в ее сердце не нашлось места другому. Она терпеливо ждала меня. С неизменным волнением слушает жена мои рассказы о Риге, и только всегда хмурится, когда я называю имя Янковской…
Разыскал меня после войны и Иван Николаевич Пронин, мы встретились с ним у меня дома. Естественно, что первым долгом я тотчас осведомился о Железнове.
– Где он? Как он? Что с ним?
Но Пронин уклонился от прямого ответа на мои расспросы.
– Когда-нибудь после, – сказал он. – Это сложный вопрос…
И так ничего больше мне не сказал, и я понял, что дальнейшая судьба Железнова – это, очевидно, целый роман, который еще не время опубликовывать.
Потом мы коснулись нашей жизни в Риге, наших поисков, наших общих огорчений и удач.
– Ну а что сталось с вашей агентурой, знаете? – спросил Пронин. – Со всеми этими «гиацинтами» и «тюльпанами»?
– Те, кто уцелел, вероятно, арестованы? – высказал я догадку.
– Да, большинство арестованы, – подтвердил Пронин и усмехнулся. – Но трех или четырех не стоило даже трогать, на всякий случай за ними присматривают, хотя оставили их на свободе.
Мы еще поговорили о том о сем…
Я выразил и удивление, и восхищение быстротой и тщательностью, с какой Пронин сумел оборудовать рацию капитана Блейка.
Пронин снисходительно усмехнулся:
– Обычная практика. В таких обстоятельствах мы не то что английский передатчик, черта бы из-под земли выкопали…
Несколько лет спустя после этой встречи мне довелось проездом побывать в Риге, задержаться там я мог всего на один день.
Я походил по городу, он был по-прежнему красив и наряден, зданий, разрушенных войной, я уже не нашел, на смену им поднимались другие. Подошел я и к дому, в котором квартировал у Цеплисов, дом сохранился, но жили в нем другие жильцы.
Юноша, открывший мне дверь, сказал, что Цеплис работает в одном из сельских районов секретарем райкома партии.
Мне хотелось его повидать, но я не располагал временем на разъезды. По возвращении в Москву я написал Мартыну Карловичу письмо, и теперь мы с ним обмениваемся иногда письмами.
Попытался найти Марту, но я не знал, где ее искать, а в адресном столе Марта Яновна Круминьш не значилась.
Потом мне пришла в голову мысль съездить на кладбище. Я прошелся по аллеям, побродил между памятников и крестов и, удивительное дело, нашел собственную могилу: памятник майору Макарову сохранился в неприкосновенности.
Что еще остается сказать?..
По роду своей работы мне приходится следить за иностранной прессой, правда, я интересуюсь больше специальными вопросами, но попутно читаешь и о другом.
Профессор Гренер перебрался-таки за океан, у него там свой институт, он там преуспевает.
Мне пришлось как-то прочесть письмо нескольких ученых, опубликованное в крупной заокеанской газете, в котором они поддерживали венгерских контрреволюционеров и с нескрываемой злобой выступали против венгерских рабочих и крестьян, требуя обсуждения «венгерского вопроса» в Организации Объединенных Наций. В числе прочих под письмом стояла и подпись профессора Гренера.