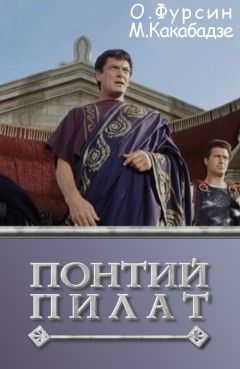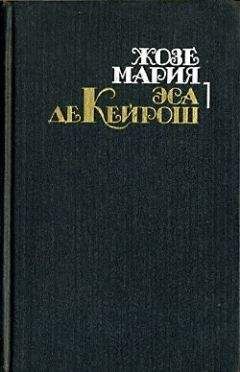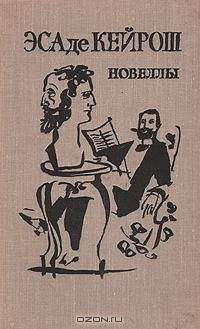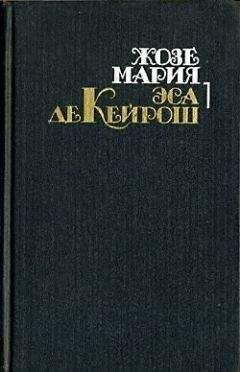Жозе Эса де Кейрош - Реликвия
А почему? Только потому, что однажды на комоде, в далеком азиатском городе, случайно перепутались два пакета в одинаковой оберточной бумаге!
Над кем еще так посмеялась судьба? Старая ханжа тетка, ненавидевшая плотскую любовь как мерзость, соглашалась отдать мне свои дома и серебро, если я позабуду о юбках и достану ей в Иерусалиме чудотворные мощи, — и к ней-то в дом я притащил сорочку модистки! А сам, в порыве сострадания, надеясь купить этим милость неба, бросил оборванной женщине с плачущим от голода ребенком колючую ветку в качестве щедрого подаяния… О господи, объясни ты мне! Или хоть ты, сатана: как совершилась эта подмена, как произошла трагедия моей жизни?
Было два похожих свертка, одинакового размера, в одинаковой бумаге, с одинаковым шнурком!.. Сверток с рубашкой лежал в темной глубине шкафа; сверток с реликвией покоился на комоде, между двумя подсвечниками. Никто их не трогал: ни весельчак Поте, ни эрудит Топсиус, ни я! Никто не перекладывал этих свертков человеческой, смертной рукой… Это сделала чья-то невидимая рука!
Да! Некто всемогущий, бестелесный, из ненависти ко мне превратил шипы в кружева, чтобы я потерял наследство и навеки скатился на дно жизни!
Так я рычал и бесновался, пока не встретил устремленный на меня взгляд широко открытых глаз, холодно наблюдавших мою погибель, — блестящих глаз распятого Христа, глядевших из рамки с помпонами…
Меня словно озарило: я понял, как совершилось чудесное превращение.
— Это твоих рук дело! — вскрикнул я. — Это все ты!
И, сжав кулаки, я излил в лицо Христу все жалобы, все вопли моей истерзанной души.
— Это ты превратил венец скорби из твоей легенды в грязную сорочку Мэри! А за что? Что я тебе сделал? Неблагодарный, изменчивый бог! Где, когда, кто поклонялся тебе, как я? Разве не ходил я каждое воскресенье, одетый в черное, слушать самые торжественные мессы, какие служит тебе Лиссабон? Разве по пятницам я не давился ради твоего удовольствия треской с постным маслом? Разве не простаивал целые дни на коленях в тетушкиной молельне, бормоча по четкам твои излюбленные молитвы? Есть ли хоть одно слово в молитвеннике, которого я ни затвердил наизусть? Есть ли в садах такие цветы, какими я ни украшал твой алтарь?
Вне себя от возбуждения, со вздыбленными волосами, дергая себя за бороду, я придвинулся к самой раме, так что от моего дыхания затуманилось стекло, и выкрикнул:
— Посмотри-ка на меня как следует! Или ты забыл, что много веков тому назад видел это лицо, эту бороду в мраморном атриуме, под навесом, где тебя судил римский претор? Конечно, ты забыл! Слишком велика дистанция между победоносным богом, вознесенным над алтарями, и провинциальным равви, связанным веревкой!.. Так знай: в тот день месяца нисана, когда ты еще никому не раздавал комфортабельных мест в раю; в тот день, когда ты еще ни для кого не был источником богатства и власти; в тот день, когда и тетушка, и все, ныне простертые у твоих ног, подняли бы тебя на смех вместе с храмовыми торгашами, фарисеями и чернью; в тот день, когда солдаты (ныне марширующие за тобой под звуки оркестра), когда судьи (ныне сажающие за решетку тех, кто отвергает тебя), когда богачи (ныне осыпающие золотом твои церкви), с их оружием, с их законами, с их кошелями, сошлись вместе, чтобы убить тебя как бунтовщика и врага собственности; в тот день, когда ты был всего лишь символом животворящего разума и деятельной доброты и потому считался опасным мятежником, — в тот день было в Иерусалиме одно сердце, которое трепетало за твою жизнь просто так, не из страха перед адом и без расчета на рай… Это было мое сердце! А теперь ты гонишь и губишь меня! За что?
И вдруг — о, чудо! — из аляповатой рамки с помпонами вырвался сноп дрожащих лучей, цвета снега и золота. Стекло со звоном треснуло посередине, будто распахнулись врата неба, и Христос, не снимая с креста пригвожденных рук, тихо скользнул в комнату, вырос, достиг головой потолка — прекрасный, величественный, сияющий, как солнце, встающее из-за гор.
С криком упал я на колени и стукнулся лбом об пол. А в комнате зазвучал тихий, как шорох ветра в жасмине, спокойный и терпеливый голос:
— Когда ты преклонял колени у моего алтаря в церкви Благодати божией и целовал ноги распятия, ты делал это лишь для того, чтобы лицемерно доказать тетушке свое благочестие; губы твои шептали молитву, взор твой смиренно потуплялся — но только затем, чтобы удовлетворить тетушкино ханжество. Бог, которому ты поклонялся, — это деньги Г. Годиньо. Небо, к которому тянулись твои трясущиеся руки, — тетушкино завещание… Чтобы занять в нем побольше места, ты прикидывался набожным, хотя был неверующим; притворялся целомудренным, хотя был распутником, притворялся милосердным, хотя был скаредным. Ты изображал сыновнюю любовь, но в сердце твоем была лишь алчность наследника… Ты лгал! Ты вел двойную жизнь: одну, показную, для тетушки, — и эта жизнь состояла из четок, постов и акафистов; другая, тайная, скрытая от тетушкиных глаз, посвящалась чревоугодию, Аделии и Рябой Бенте… Ты лгал беспрерывно, ты был правдив передо мною лишь в те минуты, когда просил меня и мою пречистую мать поскорее убить твою тетушку. Всю эту долгую и кропотливую ложь своей жизни ты воплотил в свертке, в который положил колючую ветку, столь же фальшивую, как твое сердце. С ее помощью ты надеялся окончательно завладеть деньгами и поместьями доны Патросинио. Но в другом точно таком же свертке ты возил по всей Палестине кружевную шелковую улику твоего сластолюбия и притворства… По воле случая истина вышла наружу: сверток, врученный тетке, оказался не тем и она увидела всю твою безнравственность. Этот случай должен показать тебе, Теодорико, бесполезность лицемерия!
Я слабо всхлипнул на полу. Голос смолк, потом снова зазвучал, но глуше, точно вечерний ветер в ветвях:
— Я не знаю, кто совершил смешную и ужасную подмену свертков; скорее всего, никто; скорее всего, ты сам! Причина бед обездоленного наследника совсем не в том, что шипы превратились в кружева, а в том, что у тебя было две жизни: одна, подлинная, проходила в непотребстве, другая, притворная, в благочестии. Ты был воплощенным противоречием: твой правый бок принадлежал Рапозо-богомольцу, а левый — Рапозо-богохульнику. Долго ли мог ты, живя рядом с тетушкой, показывать ей только правый бок, одетый в воскресную одежду и сияющий святостью? Неизбежно должен был наступить день, когда она с омерзением увидела бы во всей его гнусной наготе и твой левый бок, испещренный язвами порока. Вот почему я говорю тебе, Теодорико, о бесполезности лицемерия.
Ползая по полу, я тянулся губами к висевшим в воздухе ногам Христа, прозрачным ногам, пробитым гвоздями, шляпки которых мерцали, как драгоценные камни. И еще раз зашумел надо мной голос, гулкий, полнозвучный, как порыв ветра, пригибающий кипарисы:
— Ты говоришь, я гоню тебя? Нет. Подзорная труба и то, что ты называешь дном жизни, — дело твоих, а не моих рук. Я не творю твою жизнь — я только наблюдаю за нею и вершу кроткий суд… Без всякого вмешательства сверхъестественных сил, без всякого умысла с моей стороны ты можешь дойти до самого гнусного падения или вознестись к мирским высотам и стать, например, директором банка. Это зависит только от тебя, от твоих усилий и стойкости… Слушай дальше. Ты спрашивал только что, помню ли я твое лицо. Теперь я спрашиваю тебя: помнишь ли ты мой голос? Ведь я вовсе не Иисус из Назарета и не другое божество, выдуманное людьми… Я древнее всех преходящих богов; они мною порождены, во мне живут, во мне преображаются, во мне растворяются: я вечно живу рядом с ними и над ними, создаю их и уничтожаю в непрестанном усилии сотворить совершенный образ, живущий во мне. Имя мое — Совесть. В эту минуту с тобой говорит твоя собственная совесть, отраженная воздухом, светом, принявшая в твоих глазах привычный облик бога: ведь ты, дурно воспитанный, не умеющий мыслить человек, только с ним и привык меня отождествлять… Встань, посмотри на меня — и этот образ сейчас же растает.
И правда! Едва я поднял глаза — все исчезло.
Тогда я воздел руки, словно мне было божественное видение, и возопил:
— О господи мой, Иисусе Христе, сыне божий!.. — и тут же осекся. Неземной голос еще звучал в моей душе, напоминая о бесполезности лицемерия. Я вопросил свою совесть, вновь вернувшуюся в меня, и так как давно был убежден, что Иисус не был сыном бога и смертной женщины из Галилеи (вроде, например, Геркулеса, сына Юпитера и смертной женщины из Арголиды), то я отогнал навсегда от своих уст, ставших отныне правдивыми, ненужное окончание ненужной молитвы.
На следующий день я случайно забрел в парк Сан-Педро-де-Алкантара, где не бывал со школьных лет. Не прошел я и нескольких шагов, как неожиданно увидел посреди газона моего старого друга Криспина, наследника фирмы «Телес, Криспин и Ко», владевшей прядильнями в Пампулье, моего школьного товарища, которого не видел с тех пор, как покинул коллеж. Да, это был тот самый светловолосый Криспин, с которым я дружил в заведении братьев Изидоро; тот самый, что целовал меня в коридоре и писал по вечерам записки, обещая подарить целую коробочку стальных перьев. Криспин-старший умер, а Телес разбогател, растолстел, превратился в виконта де Сан-Телес, и теперь мой Криспин один представлял фирму.