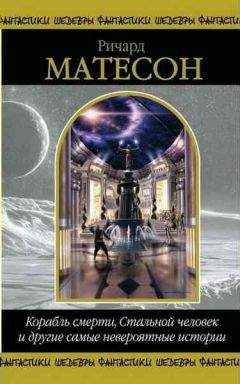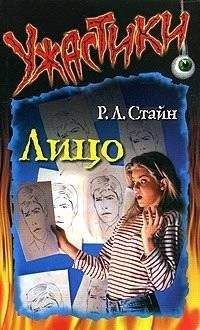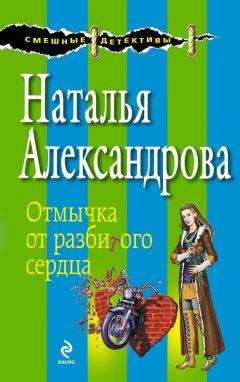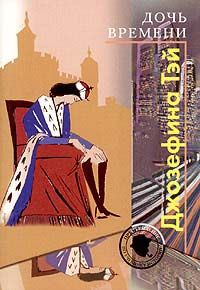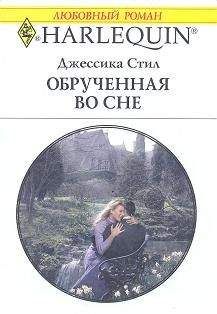Феридун Тонкабони - Избранные рассказы
Страх — пружина действий, мотив поведения многих персонажей, созданных Феридуном Тонкабони. Причем страх, испытываемый неврастеником, преследующий человека как навязчивая идея, как недуг, как неустойчивое состояние души, — такой страх еще может рассмешить иного читателя (именно так, на уровне анекдота, разрешается коллизия в коротеньком рассказе «Ипохондрик и крокодил»). Но вот мы прочитываем и другие забавные или грустные истории. В том числе и одну из самых сильных в сборнике — «Ходьба по рельсам». Ходить по рельсам было детской игрой. Опасной. В этой игре испытывались выдержка, хладнокровие, ребячья гордость, дружба. Взявшись за руки, дети шли по скользким рельсам до тех пор, пока гудок машиниста не предупреждал о приближении поезда, об опасности оказаться под его колесами. Надо было держаться до последнего предела, чтобы потом стремительно скатиться с насыпи. Дольше других могли продержаться, затаив в душе страх, те, кто были уверены друг в друге, те, кто были друг для друга «и бременем и опорой». Но вот кончилось детство. И игра, вернее, ее неписаные правила стали жизнью. И тогда «игроков» обуял такой страх, какого не приходилось испытывать в детстве и который мог оказаться ужаснее всего, что пришлось пережить и что, может быть, предстояло еще испытать участникам этой «игры», «игры» не на жизнь, а на смерть: страх оказаться в одиночестве перед неумолимо надвигающимся во мраке туннеля поездом. Более того. Страх и ужас от одной мысли, что ни за пределами туннеля, ни в вагонах мчащегося мимо поезда — нигде вокруг нет единомышленника, соратника, товарища. Эта мысль сама по себе так ужасна и противоестественна, что автор — повествователь — с трепетом и содроганием отбрасывает ее. «Ложь, — убеждает он себя, — что только я и мой напарник идем по рельсам! Что никто ничего не говорит, не поет, не кричит и что вообще вокруг никого нет! Ложь, что мой напарник только тень, вымысел! Я слышу голос товарища. Чувствую его присутствие. Вижу во мраке блеск его глаз. Отбросим все сомнения. И прежде всего то, самое ужасное.
Давайте крепко сожмем пальцы друга, ощутим их теплоту! И хотя нам трудно сохранить равновесие, будем двигаться вперед, шаг за шагом, подавив в себе страх. Надо во что бы то ни стало удержаться на гладких, скользких рельсах!
И вперед! Только вперед!»
Рассказ символичен. Гладкие и скользкие рельсы — емкая метафора долгого, трудного пути к свету, и поезд — тоже метафора тяжелой «железной пяты» власти. И уже не детская «игра» со смертью стала синонимом борьбы с мракобесием, косностью, равнодушием. Синонимом борьбы, которая ведется на предельных человеческих возможностях. Главным условием победы в этой борьбе может быть только солидарность, только уверенность в друге, только чувство локтя.
Мне представляется, что именно этот рассказ, который был впервые опубликован в журнале «Каве» в 1971 году, ознаменовал какой-то перелом в творческом сознании писателя. Переход от констатации кризисных ситуаций в различных слоях иранского общества и в самой структуре этого общества, от художественного анализа и исследования отдельных из них до довольно глубоких и серьезных обобщений, касающихся прежде всего позиции писателя, понимания им своего долга перед соотечественниками и вообще перед культурой народа, перед его будущим.
Конечно, писатель и раньше знал цену солидарности тружеников перед лицом предпринимателей, «хозяев жизни», наращивающих капиталы нещадной эксплуатацией рабочих, крестьян, ремесленников, мелких служащих и запугивающих их неминуемым возмездием за сопротивление. Весьма знаменателен в этом смысле его рассказ «Прозрение» из сборника «Пешка» (1966). Кстати замечу, что на обложке тегеранского издания этой книжки была изображена шахматная доска со сдвинутой за ее край фигуркой пешки. Так вот, основная мысль этого рассказа как бы противоречит названию этой книги, звучит несколько иронично по отношению к нему. Дело в том, что в оригинале заглавие рассказа отличается от данного ему переводчиком: «Афаринеш» — «Творение», «Создание». Хотя жизненные обстоятельства, социальные условия складываются так, чтобы труженик чувствовал себя всегда и во всем только пешкой, только разменной фигуркой в большой игре хозяев, в их бизнесе, человек не пешка, не безмолвная фигурка в шахматной партии, как бы подчеркивает автор. Он сотворен для активного дела, для самоутверждения, дающегося в нелегкой борьбе за свои права, достоинство, честь. Разные люди трудятся на заводе, принадлежащем господину Хошнияту[101]: есть активисты, есть явные соглашатели, трусливые оппортунисты. Но в рабочий коллектив их объединяют одинаково тяжелые для всех условия труда, частые штрафы за опоздания, за малейшие провинности, которые происходят не столько по вине рабочих, сколько по вине хозяев, не желающих расходовать свои деньги на оборудование хотя бы самой примитивной столовой, чтобы рабочие не тратили короткий обеденный перерыв на дорогу в дальний поселок и обратно. Но и этой малости добиться было нелегко. Писатель показывает, как в столкновении открытого, самоотверженного Каве и колеблющегося, не желающего рисковать собой ни при каких обстоятельствах Шапура происходит процесс рождения классового самосознания и классовой солидарности, процесс Прозрения. Он дорого дался Каве, которого на всю жизнь искалечили в полиции. Нелегко пришлось и Шапуру, от которого отвернулся коллектив, когда он понял, что, по существу, предал Каве. Писателю нужно было в этой ситуации подчеркнуть, что стремление Шапура вернуть утраченное доверие товарищей означало и его собственное прозрение, а в общем, более широком плане — переход от описания жертвенных порывов одиночек к утверждению идеи рабочей солидарности. «Не ищи защиты от силы враждебной тебе вне себя — умей в себе самом развить сопротивление насилию», — писал М. Горький в цитированной выше статье. Несомненно, эта мысль близка Феридуну Тонкабони, как дорого и близко ему творчество иранского писателя-гуманиста, его старшего современника М. Бехазина, которому и посвящен рассказ «Прозрение» и которого автор называет своим дорогим и великим другом.
Между этим ранним рассказом Тонкабони и рассказом «Кошмар», написанным в конце 70-х годов, существует несомненная внутренняя связь. Она ощущается и в острой постановке нравственно-этической проблематики, имеющей политическую окраску, и в полемике со временем, с обстоятельствами, требующими от каждого человека определенности выбора своего места, своей позиции в жизни и в борьбе. Писатель и сам изменился за эти годы. Стал глубже и аналитичнее относиться ко всему тому, что волнует его самого и его героев. За эти годы и ему, и его товарищам, в том числе Бехазину, не однажды приходилось испытывать тяжесть репрессий и преследований, совершать «путешествие в удивительный край» (так назван один из рассказов Тонкабони начала 70-х годов, в котором с горечью повествуется об аресте автора и его тюремном заключении). Выстраданный горький жизненный опыт помог ему в этом рассказе подняться до высот социально-философского и художественного обобщения. Оказаться под дулом автомата или даже погибнуть самому — еще не кошмар, как бы говорит автор. Кошмар — это преднамеренная и даже злонамеренная подмена святых понятий «дружба», «солидарность», «братство», «революция», «народ» — фальшивыми, циничными, вытравляющими истинное и всегда классово-конкретное содержание этих слов. Поэтому он так гневно обличает предательство, малодушие, измену, которые в конце концов разрушают человеческую личность. Именно это и произошло с героем рассказа. Та же тема, как тема необходимости духовного сопротивления нравственному распаду, звучит и в последнем рассказе сборника «Из ночи, из заключения», в котором создан прекрасный образ самоотверженной матери узника.
Для творческой манеры Ф. Тонкабони, в особенности последнего периода, характерно обращение к духовному наследию не только прогрессивных писателей Ирана, но и к мастерам мировой культуры такого масштаба, как Максим Горький, Ромен Роллан и другие.
В 1952 году в Иране вышел сборник статей М. Горького под названием «Мелкая буржуазия», в который вошли «Заметки о мещанстве», «С кем вы, мастера культуры?», «О культурах». На этот сборник ссылается Тонкабони в примечаниях к своему рассказу «Скромное обаяние мелкой буржуазии» как на один из основных источников понимания им мещанской души, мещанской психологии, для глубоко социального обличения и осмеяния мещанства. (Следует иметь в виду, что на персидский язык слово «мещанин» переводится обычно как «мелкий буржуа».) В этом рассказе нет никакого действия, ничего внешне занимательного. В гостиной богатого дома собрались разные люди, чтобы приятно провести время. Они пьют и закусывают, дергаются в ритмах современной рок- и поп-музыки, злословят, томятся от скуки, разглагольствуют о совести, о долге. Но это не люди, это маски, марионетки. У них нет даже собственных имен — только прозвища, как знак профессии: Маршал (почитатель гитлеровского генерала Роммеля), Учитель, Посол, Инженер, Доктор, Торговец Вениками и т. д. Многие из них — наркоманы, не прочь позабавиться адюльтером. Эволюция с ними произошла чудовищная. Как прямо подчеркивает писатель во втором примечании к рассказу, для каждого из них в юности «Жан-Кристоф» Р. Роллана был «священной книгой». А теперь, как говорит Учитель, «идеалы разменены на вещи». И хотя он лучше своих друзей понимает причины нравственного оскудения «интеллигентных» мещан, сам он не может пойти дальше пустой фразеологии и резонерской самокритики. Этим людям воистину нечего делать в жизни. «И вот мы видим, как они тревожно и жалко прячутся от нее, кто куда может — в темные уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, построенные ими на скорую руку из краденого материала; печально и безнадежно бродят в лабиринтах метафизики и снова возвращаются на узкие, засоренные хламом вековой лжи тропинки религии, всюду внося с собою клейкую пошлость, истерические стоны души, полной мелкого страха, свою бездарность, свое нахальство, и все, до чего они касаются, они осыпают градом красивеньких, но пустых и холодных слов, звенящих фальшиво и жалобно…»[102] Как актуально, как остро, злободневно звучат горьковские слова в наше время! И мы могли убедиться, что обращение Ф. Тонкабони к горьковскому пониманию мещанства, к горьковскому гуманизму не было случайностью. Ибо в наш XX век национальные литературы, как никогда раньше, органически включены в мировой литературный процесс, отражающий важнейшие социальные сдвиги в жизни народов, в творчестве лучших мастеров культуры…