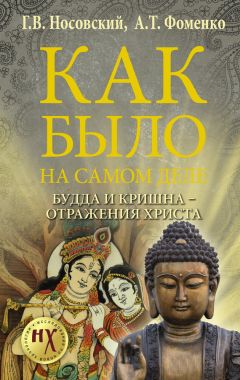Генри Миллер - Аэрокондиционированный кошмар
Офицер смотрит на него со смешанным чувством, тут и симпатия, и сомнение, и боязнь подвоха. «Спятил старикан», — думает он, а вслух спрашивает: «Ладно, где этот… собственник картин?»
«Думаю, что он сейчас дома, пишет картину», — устало произносит Стиглиц.
«Что? Он тоже художник?»
«Кто?»
«Ну, о ком вы сейчас говорите?»
«Я говорю о Джоне Марине. А вы о ком?»
«О владельце этих картин, вот о ком я говорю. Мне все равно, художник он или обойщик».
«Эти картины принадлежат тому, кто их написал, Джону Марину».
«Слава Богу, кое-что выяснили. И во сколько он их оценивает?»
«Дорогой мой, есть нечто, что мы не в состоянии точно определить. Во сколько вы их оцениваете?»
«Но я же ничего не понимаю в таких вещах», — раздраженно говорит офицер.
«Я тоже, если быть честным. Некоторые люди считают, когда я это говорю, что я с ума сошел. Если они вам нравятся, назовите свою цену, и я вам скажу, получите вы их или нет».
«Послушайте, я ведь с вами не шутки шучу», — говорит офицер.
«Я абсолютно серьезен, — говорит Стиглиц. — Уже тридцать лет люди спрашивают меня о цене работ Марина. А я не могу сказать. Кто-то говорит, что я ловко уклоняюсь от того, чтобы назвать твердую цену на его картины. А я отвечаю очень просто: «А насколько вам нравятся работы Марина? Сколько вы готовы вложить в то, чтобы Марин продолжал писать? Вы отдаете два миллиона долларов за автомобиль. А как вы сравните Марина с «бьюиком» или «студебекером»?» Люди говорят, что так картинами не торгуют. Но я не торгую картинами. Я хочу, чтобы люди узнали Джона Марина. Я верю в него. Я все на него поставил. Больше того, скажу вам, что есть люди, которым я не дам Марина ни за какую цену. Но тот, кому на самом деле хочется иметь Марина, — может его получить. Не чего-то хочется, а именно Марина. А я назначу цену в соответствии с бумажником покупателя. Никого не спроважу, кто придет с честным предложением.
«Все это очень интересно, старина, но я здесь не ради дискуссий о ценностях и ценах. Я здесь…»
Стиглиц прерывает: «И мне это, честно говоря, до смерти надоело. Я бы лучше поговорил о Джоне Марине». Кряхтя, Стиглиц поднимается со своего ложа. «Подойдемте-ка поближе, — говорит он, беря офицера под локоть. — Здесь Марин, который не уйдет отсюда, пока я жив. Посмотрите на него! Можете вы назвать цену подобной картине?»
Словно против воли, офицер внимательно рассматривает акварель. Он явно в замешательстве, сбит с толку.
«Не торопитесь, — говорит Стиглиц, довольный смущением офицера. — Двадцать пять лет я смотрю на эту вещь и всякий раз нахожу в ней что-то новое».
Офицер медленно отводит взгляд. Он будто разговаривает сам с собой. «Забавно, я ведь пробовал когда — то писать. И у меня, признаюсь, никогда не получалась вода. Это было так давно, кажется, совсем в другой жизни». Он заметно смягчился. Продолжает тем же манером бормотать как бы про себя. И наконец выпаливает: «Вы абсолютно правы. Что-то есть необычайное в этом Марине, как вы его называете. Он волшебник. Я должен привести сюда своего генерала. Он обалдеет от этого вашего Марина».
«Конечно, обалдеет, — тихо говорит Стиглиц, — если он человек с понятием. Приводите всю свою команду. Мне доставит удовольствие показать им работы Джона Марина».
«Вас, кажется, совсем не беспокоит, что мы можем сделать с вами. Вы разговариваете так, словно нет никакой войны. Странный вы человек. И начинаете мне нравиться».
«Естественно, — говорит Стиглиц без тени смущения. — Мне ни от кого не надо ничего скрывать. У меня ничего нет. Я прожил с этими картинами практически всю свою жизнь. Они давали мне столько радости, я понимал их, и они понимали меня. Я почти рад, что мой друг Марин не преуспел в житейском смысле слова. И он тоже, я думаю. Вы можете зайти к нему домой, у него там коллекция, которую он держит для себя. Попросите его показать вам».
«А вы не думаете, что мы можем увезти картины в нашу страну?»
«Думаю, конечно, — тут же отвечает Стиглиц. — Но меня это не волнует. Они принадлежат всему миру. Все, о чем я попросил бы вас, так это чтоб они были под хорошим приглядом. Видите, — он снова берет офицера под локоть, — ни одной царапины на этих рамках. Марин рамки делал сам. Мне хотелось бы, чтобы вы сохранили картины в таком же виде. Кто знает, где они будут висеть через десять лет. А через пятьдесят? Или через сто? Я, знаете ли, старый человек. Я повидал на своем веку много такого, во что и поверить трудно. Вы считаете, что хорошо бы забрать их в вашу страну. Бог с вами — берите. Но только не питайте никаких иллюзий насчет того, что они останутся у вас. Произведения искусства часто надолго переживают рухнувшие империи. Но даже если вы уничтожите произведение искусства, вам не уничтожить того воздействия, какое оно оказало на мир. Даже если никто, кроме меня, никогда не увидит их, их ценности это не повредит. Ваши пушки могут все разрушить, но они ничего не создают, так ведь? Вы не можете убить Джона Марина, уничтожив его произведения. Нет, меня не тревожит их судьба. Они уже что-то прибавили к этому миру. Вы можете пойти еще дальше — убить самого Джона Марина. И это тоже не важно. То, что символизирует Марин, неуничтожимо. Я думаю, он рассмеется, когда вы приставите револьвер к его виску и пригрозите смертью. Он крепок, знаете ли, как старый бойцовый петух. Конечно, вы не захотите его убивать, я прекрасно понимаю это. Но вы можете предложить ему хорошую работу, а это изощренный способ убийства. На вашем месте я бы его не трогал, пусть живет как хочет и где хочет. Смотрите только, чтобы он не умирал с голоду, ладно? Я больше не могу присматривать за ним, как вы сами видите. Все, что было в моих силах, я для него сделал. Теперь очередь ваша и тех, что придут следом… Как зовут вашего генерала? Почему бы вам и в самом деле не привести его сюда? Если он ценитель искусства и знаток, я уверен, мы найдем много общего. Может быть, мне удастся освободить его от некоторых идей».
Стиглиц поворачивается на каблуках и плетется к своей койке в маленькой комнате. Офицер остается стоять в зале, рассеянно глядя на картины Марина на стенах. И щиплет себя за руку, чтобы убедиться, что все это ему не снится…
Вот такую маленькую комедию разыгрываю я, когда думаю о последних днях Стиглица. Но есть и другая, которая, вероятней всего, может повториться в подлинной жизни. Стиглиц будет стоять лицом к лицу с Марином, разговаривая с ним в своей обычной манере, и вдруг, на середине фразы, упадет мертвым. Так, я думаю, и должно произойти. И я уверен, что Стиглиц тоже так думает.
Стиглиц, часто употребляющий местоимение «я», самый неэгоистичный человек из всех, кого я когда — либо знал. Это его «я» больше похоже на скалу, на которой он утвердился. Он никогда не бывает равнодушным, никогда не говорит бесстрастно, он всегда заинтересован, и забыть о местоимении «я» для него значит отказаться от того, что он личность. Личность, противостоящая персонажу, с которым она общается и который тоже представляет собой личность. Стиглиц — единственное, неповторимое человеческое существо. И ни перед кем он не проявляет притворной скромности, зачем это ему? Будете ли вы извиняться всякий раз, когда упомянете имя Бога? Все, что говорит Стиглиц, основано на его твердой убежденности. За каждым его словом стоит вся его жизнь, жизнь, не боюсь повториться, бескорыстно отданная служению тому, во что он верит. Он верит! — вот в чем вся суть. Он не излагает своих мнений — он говорит о том, что для него истина, выстраданная всем своим личным опытом. Можно не соглашаться с его взглядами, но нельзя доказать их несостоятельность. Они будут жить и дышать всегда, как и сам Стиглиц. Покончить с его взглядами — это значит постепенно прикончить и Стиглица. Каждая частица в нем утверждает его правду. Такие люди редки в нашу эпоху. Естественно, о нем высказываются самые разные мнения. Опять мнения! Разве стоят чего-нибудь все эти мнения? Чтобы ответить достойно Стиглицу, вы должны быть равного ему качества. Вы такой? Да и что, в конце концов, возразить человеку, который говорит: «Верю в это. Люблю это. Дорожу этим». Ведь Стиглиц только это и говорит. Он не просит вас с ним соглашаться. Он просто предлагает вам послушать, как он восхваляет дорогие его сердцу вещи, восхваляет людей, помощи которым он посвятил всю свою жизнь.
Он часто раздражает людей, потому что ведет себя не как другие торговцы живописью. Его называют то хитрым ловкачом, то донкихотствующим, то непредсказуемым сумасбродом, как только его не называют. Но никто из этих критиков не задает себе вопрос, а что произошло бы с Марином, с О'Кифф и с прочими, попади они в другие руки. Несомненно, Марин мог получить куда больше денег, чем то, что когда-либо добывал для него Стиглиц. Но стал бы Джон Марин тем человеком, каким он стал сегодня? Писал бы он так же, как пишет сейчас, на семьдесят втором году жизни? Сомневаюсь в этом. Я своими глазами наблюдал практикуемый в этой стране процесс уничтожения художника. Мы все свидетели взлетов и падений на волнах «грандиозных успехов». Наши эфемерные идолы! Как мы их любим! И как мы их быстро забываем! И надо возблагодарить Бога, что среди нас все еще живет такой человек, как Стиглиц, каждым днем своей жизни демонстрирующий постоянство своей любви. Человек этот — законченное чудо стойкости, твердости духа, скромности, нежности, мудрости, веры. Он подобен утесу, о который напрасно бьются потоки вздорных, суетных мнений. Стиглиц непреклонен и неизменен. Он один такой. Вот почему я не побоялся изобразить его сидящим в своем крохотном офисе, совершенно равнодушным к тому, что вокруг него рушится мир. А почему он должен трепетать от присутствия врага? Почему он должен бежать? Разве он не был окружен, обложен врагами, не отступавшимися от него всю жизнь? Не столько могущественными и открытыми врагами, сколько мелкими, низкими, вероломными, норовящими ударить, когда к ним поворачиваются спиной. Нет хуже врагов, чем враги из наших ближних. Враги жизни, как я их называю, потому что, где бы ни проклюнулся новый нежный росток жизни, они затаптывают его. И часто даже не преднамеренно, а бессмысленно и бесцельно. Реального врага всегда можно встретить лицом к лицу и победить или оказаться побежденным. Реальный антагонизм, по сути, основан на любви, любви, не распознавшей себя. Нос этой липкой ползучей враждебностью, вызванной к жизни равнодушием и невежеством, бороться куда труднее. Она подкапывается под самые корни жизни. Единственный, кто может управиться с ней, — это волшебник, чудотворец. И вот таков Стиглиц, и таков же Марин. Только если поле деятельности Марина живопись, то Стиглиц действует в сфере жизни. Они постоянно и взаимно пробуждают творческую активность, взаимно вдохновляют и воодушевляют друг друга. Нет более прекрасного брака, чем этот союз двух родственных душ. Все, к чему они прикасаются, приобретает оттенок благородства. На них не отыщешь ни единого пятнышка. С ними мы достигаем царства чистой духовности. И позвольте нам там и остаться — пока не придет враг.