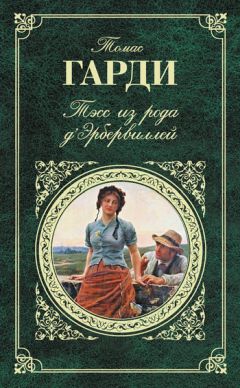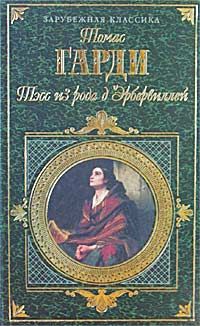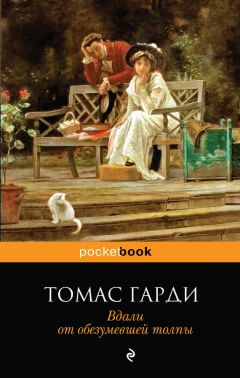Маргарет Рэдклифф-Холл - Колодец одиночества
Мортон… Он был исполнен такого покоя и совершенства, но именно оттуда она должна бежать, должна забыть его; и все же она не могла забыть его среди этих вещей; они напоминали о нем самой своей непохожестью. Интересно, что сказал Брокетт этим вечером — оставить море между собой и Англией… На фоне ее собственных планов, наполовину уже оформившихся, его слова прозвучали эхом ее мыслей; как будто он подглядел в какую-то замочную скважину за ее мыслями, выведал ее трудности. По какому праву этот любопытный человек шпионил за ней — этот мужчина с мягкими белыми руками женщины, с движениями, подходящими к этим мягким белым рукам, но так не подходящими ко всему его телу? У него не было никакого права; а сколько уже успел он выследить через эту скважину? Брокетт был дьявольски умен — все его капризы и слабости не могли это скрыть. Лицо выдавало его, твердое, умное лицо с зоркими глазами, которые так и липли к чужим замочным скважинам. Вот почему Брокетт писал такие великолепные и такие беспощадные пьесы; он кормил свой гений живой плотью и кровью. Гений-хищник, Молох, живущий плотью и кровью! Но она, Стивен, старалась питать свое вдохновение травой — доброй, зеленой травой Мортона. На некоторое время этой пищи хватило, но теперь ее талант ослабевал, возможно, умирал — или она тоже подпитывала его кровью, кровью своего сердца, пока писала «Борозду». Если так, то ее сердце больше не станет кровоточить — больше не может — может быть, она высохло. Оно сухое и истрепанное; ведь она теперь даже не чувствует любви, когда думает об Анджеле Кросби — а значит, сердце в ней умерло. Грустный спутник в жизни — мертвое сердце.
Анджела Кросби… бывали все же времена, когда она страстно жаждала увидеть эту женщину, услышать, как она говорит, протянуть свои руки и сжать в них ее тело — не так нежно и не так терпеливо, как в прошлом, но крепко, даже грубо. Гадко… это было так гадко! Она чувствовала себя униженной. Она не могла теперь предложить Анджеле Кросби любовь — только то, что когда-то лежало пятном на красоте ее любви. Даже это воспоминание было запятнано и осквернено, скорее с ее стороны, чем со стороны Анджелы.
Ей вспомнилась та незабываемая сцена между ней и матерью. «Я скорее готова была бы увидеть тебя мертвой у своих ног». О да, так просто говорить о смерти, но непросто ее устроить. «Нам двоим не место в Мортоне… Одна из нас должна уйти — кто это будет?» Такой тонкий, такой изощренный вопрос, на который из чистого приличия не могло быть двух ответов! Что ж, она ушла, и она уйдет еще дальше. Рафтери умер, больше ее ничто не держит, она свободна — как ужасна бывает свобода! Деревья свободны, когда ветер вырвал их с корнем; корабли свободны, когда их срывает с якоря; люди свободны, когда они выброшены из своего дома — свободны бедствовать, свободны пропадать от холода и голода.
В Мортоне жила стареющая женщина с печальными глазами, теперь чуть затуманенными, потому что слишком далеко пришлось ей смотреть вдаль. Только однажды с тех пор, как ее глаза остановились на умирающем, эта женщина обратила их на свою дочь; и тогда эти глаза были обвиняющими, безжалостными, отвратительно жестокими. Глядя на то, что было отвратительно им, они сами стали отвратительными. Ужасно! И все же, как они смели обвинять? Какое право есть у матери питать отвращение к ребенку, который появился благодаря ее собственным тайным мгновениям страсти? Она, почтенная, счастливая, плодовитая, любимая и любящая, презирала плод своей любви. Ее плод? Нет, скорее жертву.
Она думала о защищенной жизни своей матери, которой никогда не приходилось вставать лицом к лицу с такой ужасной свободой. Как лоза, оплетающая теплую стену с южной стороны, она цеплялась за ее отца — и все еще цеплялась за Мортон. Весной приходили благодатные, живительные дожди, летом — сильное солнце, несущее силу, зимой — глубокое мягкое одеяло снега, холодное, но защищающее нежные завитки лозы. Все, все было у нее. Она никогда не была лишена любви в пылкие дни своей юности; никогда не знала в своей любви тоски, стыда, унижения — только великую радость и великую гордость. Ее любовь была чиста в глазах мира, потому что она могла позволить ее себе с достоинством. И, все еще с достоинством, она понесла ребенка от своего супруга — но ее ребенок, в отличие от нее, должен был жить или без единого счастливого дня, или в низком бесчестии. О, сколько жестокости, беспощадности должно быть в матери, несмотря на всю ее мягкую красоту, если ей не стыдно стыдиться своего отпрыска! «Я скорее готова была бы увидеть тебя мертвой у своих ног…» «Поздно, слишком поздно, твоя любовь уже дала мне жизнь. Вот я, существо, которое ты создала своей любовью; своей страстью ты создала то, чем являюсь я. Кто ты, чтобы лишать меня права любить? Если бы не ты, я никогда не появилась бы на свет».
Теперь ум Стивен охватывала самая тяжкая мука — сомнение в своем отце. Он все знал, и, зная все, ничего не сказал ей; он жалел, и, жалея, не защитил; он страшился, и, устрашившись, спасал лишь себя. Неужели ее отец был трусом? Она вскочила с места и стала расхаживать по комнате. Нет, только не это — она не могла выдержать этой новой муки. Она запятнала свою любовь, ту, какой любят влюбленные — она не смела запятнать единственного, что ей оставалось, той любви, какой ребенок любит отца. Если погаснет этот свет, тьма сомкнется и поглотит ее, разрушит ее полностью. Человек не может жить одной тьмой, хоть один проблеск света нужен, чтобы спасти его — всего один проблеск света. Самое совершенное существо из всех — даже Он возопил о свете среди Своей тьмы — даже Он, самый совершенный из всех. И тогда, как будто отвечая на молитву, ту молитву, которую не произносили ее дрожащие губы, пришло воспоминание о терпеливой, защищающей спине, склоненной, как будто под чьей-то чужой ношей. Пришло воспоминание об ужасной, надрывающей душу боли: «Нет… только не это… я хочу… сказать… кое-что важное. Не надо лекарств… я знаю, я… умираю, Эванс». И снова героическое, мучительное усилие: «Анна… послушай… это про Стивен!» Стивен вдруг протянула руки к этому человеку, который, хоть и мертвый, оставался ее отцом.
Но даже в этот благословенный момент облегчения ее сердце снова ожесточилось от мысли об ее матери. Новая волна горечи затопила ее душу, так, что этот огонек чуть не погас; он светился едва-едва, как маленький фонарик на бакене, который раскачивает буря. Она села за стол, взяла ручку и бумагу и начала письмо:
«Мама, скоро я поеду за границу, но я не приеду попрощаться с тобой, потому что не хочу возвращаться в Мортон. Эти мои визиты всегда были болезненными, и теперь от этого начинает страдать моя работа — я не могу позволить это себе; я живу только своей работой, и поэтому собираюсь сохранить ее в будущем. Теперь не может стоять вопроса о сплетнях или скандале, ведь каждый знает, что я писатель, и я могу иметь повод для путешествий. Но, в любом случае, теперь мне мало дела до соседских сплетен. Почти три года я несла твое бремя — я пыталась быть терпеливой и понимающей. Я пыталась думать, что это бремя — справедливое наказание, может быть, за то, что я такая, как есть, что я — то создание, которое сотворили ты и мой отец; но теперь я не собираюсь нести его дальше. Если бы мой отец был жив, он проявил бы жалость, в то время как ты этого не делаешь, а ведь ты моя мать. В час моей беды ты совершенно отвергла меня; ты отшвырнула меня, как что-то грязное, чему больше не место в Мортоне. Ты оскорбила то, что было для меня естественным и священным. Я ушла, но больше я не вернусь — ни к тебе, ни в Мортон. Паддл будет со мной, потому что любит меня; если я спаслась, то спасла меня она, и, пока она желает разделять свой жребий со мной, я не буду ей мешать. Только одно еще; время от времени она будет посылать тебе наш адрес, но не надо писать мне, мама, я уезжаю, чтобы забыть, а твои письма будут только напоминать мне о Мортоне».
Она перечла написанное три раза, не нашла ничего, чтобы добавить, ни слова нежности и ни слова сожаления. Она чувствовала себя окоченевшей и невероятно одинокой, но она надписала адрес твердым почерком: «Леди Анне Гордон», — написала она, — «Мортон-Холл, рядом с Аптоном-на-Северне». А потом она расплакалась, закрывая глаза крупными загорелыми ладонями, потому что должна была это сделать, и ее душе не становилось легче от этих слез, потому что эти слезы, горячие и гневные, только опаляли ее. Так Анна Гордон была крещена огнем, ее дитя крестило ее огнем, чтобы они не могли спасти друг друга.
Глава тридцать первая
Джонатан Брокетт порекомендовал небольшой отель на улице Святого Рока, и, когда Стивен и Паддл прибыли туда июньским вечером, довольно усталые и удрученные, они обнаружили в своем номере яркие розы для Паддл и две коробки турецких сигарет на столике для Стивен. Брокетт, как они узнали, специально выписал все это из Лондона.