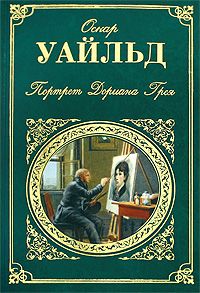Анатоль Франс - 7. Восстание ангелов. Маленький Пьер. Жизнь в цвету. Новеллы. Рабле
Впоследствии, когда я стал мужчиной, мне, может быть, и случалось иногда пожелать чего-нибудь вроде того звучного и пустого инструмента, о котором я так мечтал в раннем детстве, — тимпанов славы, цимбал общественной похвалы. Но, лишь только я замечал, что это желание зарождается и начинает шевелиться в моей душе, я вспоминал мой детский барабан и цену, которую мне пришлось за него уплатить. И я тотчас переставал желать благ, которые судьба никогда не уступает нам даром.
Жан Расин, читая латинскую библию, подчеркнул в ней такое место: «Et tribuit eis petitionem eorum»[174]. Он вспомнил его, вложив в уста Арисии следующие слова, заставившие побледнеть неосторожного Тезея: [175]
Страшись, о государь, чтобы твоей мольбе
Не вняли небеса из-за вражды к тебе.
Принесший жертву им не избежит их мщенья!
Порой их дар есть казнь за наши прегрешенья.
X. Дружная театральная труппа
В эти далекие времена, когда я, бывало, лежал в постельке, — оттого ли, что был не совсем здоров, или просто потому, что проснулся раньше обыкновенного, — на меня смотрело чье-то угрюмое серое лицо, огромное и бесформенное, передо мной вставал призрак, более страшный, чем скорбь или страх, — Скука. И не та скука, какую воспевают поэты, — скука, расцвеченная ненавистью или любовью, прекрасная и надменная. Нет, то была глубокая, однообразная скука, внутренний туман, пустота, ставшая ощутимой. Чтобы предотвратить посещение этого призрака, я звал матушку или Мелани. Увы! Они не приходили, а если и приходили, то оставались со мной одну минутку и говорили мне то же, что говорила пчелка маленькому мальчику в стишке г-жи Деборд-Вальмор: [176]
…Я очень тороплюсь…
…Нельзя смеяться вечно.
А матушка добавляла:
— Знаешь, детка, чтобы не скучать, повторяй таблицу умножения.
Но это уж была крайняя мера, и я не мог на нее решиться. Я предпочитал придумывать кругосветные путешествия и необыкновенные приключения. Мой корабль шел ко дну, и я вплавь добирался до берега, кишевшего тиграми и львами. Будь у меня более богатое воображение, оно могло бы спасти меня от скуки. К несчастью, вызванные мною картины были так бледны, так бесцветны, что сквозь них проступали и обои моей комнаты и туманный лик, которого я так боялся. С течением времени я нашел лучшее средство и ухитрился устраивать себе в своей кроватке приятное и остроумное развлечение, пользующееся большим успехом у всех цивилизованных народов, — я ставил для себя спектакли. Надо ли говорить, что мой театр не сразу достиг совершенства? Греческая трагедия вышла из повозки Феспида[177]. Я напевал вполголоса, отбивая такт движением руки, — так возник мой Одеон[178]. Он родился очень жалким. Безобидная корь весьма кстати продержала меня в постели, чтобы дать мне возможность заняться его усовершенствованием. Я управлял пятью актерами, или, вернее, пятью характерами, как в итальянской комедии: это были пять пальцев моей правой руки. Каждый имел свое имя и свой облик. И подобно маскам итальянского театра, с которыми я не могу не сравнить их, мои актеры сохраняли свои имена во всех исполняемых ими ролях, если только пьеса не требовала других имен, как это бывало, например, в исторических драмах. Однако свой индивидуальный характер они сохраняли во всех случаях, и, скажу без лести, в этом отношении они ни разу себе не изменили.
Большой палец назывался Раппар. Почему? Не знаю сам. Нечего и надеяться объяснить все. Не всему можно найти причину. Раппар, низкорослый, широкий, коренастый, необычайно сильный, был субъект невоспитанный, резкий, драчун, пьяница, настоящий Калибан[179]. Кузнец, посыльный, носильщик, разбойник, солдат, в зависимости от исполняемой роли, он постоянно совершал жестокие и грубые поступки. В случае надобности он играл хищных зверей, — например, волка в «Красной Шапочке» и медведя в довольно милой комедии, где некая юная пастушка застигает врасплох спящего белого медведя, продевает ему в нос кольцо, а потом ведет пленника во дворец и заставляет плясать перед королем, который немедленно женится на девице.
Указательный палец по имени Митуфль являлся полной противоположностью Раппару как в нравственном, так и в физическом отношении. Митуфль не был ни самым рослым, ни самым красивым в труппе. Он даже казался чуточку искривленным и изуродованным в результате какой-то работы, непосильной для юного возраста. Но по живости движений и по остроумию реплик это был мой лучший актер. Великодушный от природы, он без размышлений бросался на защиту угнетенных. Его смелость доходила до безрассудства, и драматург предоставлял ему многочисленные возможности ее проявить. Никто не мог сравниться с ним во время пожара, когда надо было вытащить из огня ребенка и принести его матери. Единственным его недостатком была чрезмерная живость, но ему прощали ее или, вернее, еще больше любили его за это.
Ахилл бы не пленял, не будь он скор и пылок.
Средний палец, изящный, прямой, высокий, великолепный, обладал при этой счастливой внешности еще и рыцарской душой. Происходя от знаменитейших предков, он носил славное имя Дюнуа. Боюсь, что на этот раз я знаю, откуда взялось это имя, и не сомневаюсь, что родоначальницей его была моя дорогая матушка. Матушка пела не очень хорошо и притом лишь тогда, когда ее слушал я один. Она пела:
В сирийские владенья
Дюнуа собрался плыть.
Идет благословенья
У девы он просить.
Она пела также: «Отдохните, прекрасные рыцари». И пела еще: «Вздыхая, я зарю увидел». Моя дорогая матушка восторгалась романсами королевы Гортензии[180], которые были очаровательны в свое время.
Простите мне эти отступления — ведь я излагаю основы целого искусства. Безымянный палец, на котором обычно носят обручальное кольцо, но на котором никакого кольца не было, отождествлялся с дамою замечательной красоты, названной Бланкой Кастильской. Возможно, что это был псевдоним. Будучи единственной женщиной в труппе, она играла матерей, супруг, возлюбленных. Молодой красавец Дюнуа при содействии усердного и бескорыстного Митуфля тысячу раз спасал эту добродетельную и угнетенную особу от величайших опасностей. Она часто выходила замуж за Дюнуа, реже — за Митуфля. Еще один характер, и с моей труппой будет покончено. Жанно, мизинец, был маленький, совсем глупенький мальчик, которого в случае надобности превращали в девочку, например, когда представляли «Красную Шапочку». И мне кажется, что девочкой он был немного умнее.
Пьесы, которые сочинялись для перечисленных выше исполнителей, напоминали commedia dell'arte[181] в том отношении, что я придумывал только канву, а диалог импровизировали сами актеры, соответственно своему характеру и положению. Однако это вовсе не значит, что они были похожи на итальянские фарсы и на те пьесы ярмарочных балаганов, в которых Арлекин, Коломбина и Доктор дерутся друг с другом из-за низменных интересов и пошлых страстей. Мои творения, более благородные, принадлежали к героическому жанру, и в самом деле он более всех других близок существам простодушным и невинным. Я бывал мрачным, возвышенным, трагичным и даже жестоко трагичным. Когда страсти поднимались до таких высот, что слов уже не хватало, начиналось пение. В этих драмах были и комические сцены. Сам того не зная, я работал в шекспировской манере[182]. Мне было бы гораздо труднее работать в манере Расина. И не потому, чтобы, подобно Ламартину, я питал отвращение к буффонаде, отнюдь нет! Но мои шутки были очень просты, к ним не примешивалась ирония. В моем театре часто повторялись одни и те же положения, но у меня не хватало мужества упрекать себя за это — они были так трогательны! Плененные принцессы, которых освобождал мужественный рыцарь, похищенные дети, возвращаемые матерям, — таковы были излюбленные мои сюжеты.
Впрочем, я отваживался выступать и в других жанрах. Я сочинял любовные драмы, где было рассыпано много перлов, но недоставало действия, а главное — развязки. Эти недостатки объяснялись чистотой моей души: полагая, что любовь является самоцелью и сама по себе дает высшее блаженство, я не побуждал ее искать какого-нибудь иного удовлетворения. Получалось очень возвышенно, но однообразно.
Я разрабатывал также и военные сюжеты, смело затрагивая наполеоновскую эпопею, о которой слышал из уст современников этой великой эпохи, еще столь многочисленных в годы моего младенчества. Дюнуа играл Наполеона, Бланка Кастильская — Жозефину[183] (я ничего не знал о Марии-Луизе), Митуфль — гренадера, Жанно — флейтиста; Раппар изображал англичан, пруссаков, австрийцев и русских — словом, неприятеля. И с такими силами я ухитрялся одерживать победы при Аустерлице, Иене, Фридленде, Ваграме, вступать в Вену и в Берлин. Я редко ставил одну и ту же пьесу дважды, у меня всегда была наготове новая. По плодовитости я был настоящий Кальдерон[184].