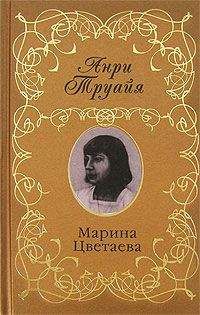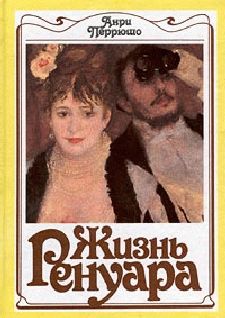Анри Мюрже - Сцены из жизни богемы
II
Вечером двадцать четвертого декабря Латинский квартал совсем преобразился. С четырех часов ломбарды, ларьки букинистов и скупщиков подержанного платья осаждались шумной толпой, а затем весь этот люд устремлялся на штурм колбасных, бакалейных и съестных лавок. Будь у приказчиков по сто рук, как у Бриарея, и то им не справиться бы с покупателями, которые вырывали друг у друга товары. Возле булочных стояли очереди, как в голодное время. У виноторговцев распродавалось вино целых трех урожаев, и самый опытный статистик затруднился бы подсчитать, какое количество окороков и колбас сбывалось у знаменитого Бореля на улице Дофин. Папаша Кретен, по прозвищу Крендель, распродал за один этот вечер восемнадцать изданий своих пирожков. Из ярко освещенных окон меблированных комнат всю ночь неслись оглушительные крики, всюду царило веселье, напоминавшее кермесу.
Торжественно отмечался древний праздник – сочельник рождества Христова.
В тот вечер часов около десяти Марсель и Родольф возвращались домой довольно грустные. Возле колбасной на улице Дофин теснился народ, и друзья на минуту остановились у витрины, чтобы полюбоваться соблазнительной снедью, они умильно созерцали разложенные товары, совсем как тот герой испанского романа, от одного взгляда которого окорока убывали в весе.
– Вот это называется индейкой с трюфелями,– пояснил Марсель, указывая на великолепную птицу, у которой сквозь прозрачную розовую кожу проглядывал трюфельный фарш.– Я видел святотатцев, которые ели такую божественную вещь, не став перед ней на колени,– добавил художник и бросил на индейку такой взгляд, от которого та чуть не изжарилась.
– А что скажешь об этой скромной бараньей ножке? – подхватил Родольф.– Колорит-то какой! Можно подумать, что ее только что принесли из съестной лавки с картины Иорданса. Это любимое лакомство богов, а также моей крестной, мадам Шанделье.
– Взгляни-ка на эту рыбу,– продолжал Марсель, указывая на форель.– Это лучший пловец во всем водном царстве. На вид совсем невзрачная рыбка, а ведь она могла бы нажить себе ренту, выделывая акробатические трюки. Представь себе, она может подниматься вверх по струям отвесного водопада с такой же легкостью, с какой мы принимаем приглашение на ужин. Однажды мне чуть было не пришлось ее отведать.
– А вот там, смотри, крупные продолговатые золотистые плоды с листьями, напоминающими наряд каких-то дикарей. Они называются ананасами, под тропиками это все равно что у нас яблоки.
– Меня они не волнуют,– ответил Марсель.– Всем фруктам на свете я предпочел бы сейчас вот этот кусок говядины, или ту жирную ветчину, или вон тот окорочек, подернутый желе, прозрачным, как амбра.
– Ты прав,– согласился Родольф. – Ветчина – лучший друг человека, но не у всякого есть такой друг. Все же я не отказался бы и от этого фазана.
– Еще бы, это еда, достойная коронованных особ! Они пошли дальше, и им все чаще стали попадаться веселые компании, собиравшиеся воздать должное Мому, Вакху, Кому и прочим греко-римским божествам, покровителям пиров. При виде этих жизнерадостных ватаг друзья спрашивали себя: уж не собираются ли сегодня праздновать свадьбу какого-нибудь сеньора Камачо, раз все тащат такую уйму всякой снеди?
Наконец Марсель вспомнил, какое было число и что за праздник.
– Да сегодня сочельник! – воскликнул он.
– А помнишь, как мы провели этот день в прошлом году? – спросил Родольф.
– Помню, мы были у «Мома»,– ответил Марсель.– Расплачивался Барбемюш. Я никак не предполагал, что такое хрупкое создание, как Феми, может вместить в себе столько колбасы.
– Какая досада, что «Мом» отказал нам от дома!
– Увы! – вздохнул Марсель,– праздники повторяются, но каждый раз в другом виде.
– А тебе хотелось бы отпраздновать сочельник? – спросил Родольф.
– С кем и на какие деньги? – ответил художник.
– Конечно, со мной.
– А где ж презренный металл?
– Подожди минутку,– сказал Родольф,– я загляну вот в это кафе, тут бывает кое-кто из моих знакомых, играющих по крупной. Я займу несколько сестерций у того из них, кому везет, и у нас будет чем залить сардинку и свиной окорочек.
– Ступай,– одобрил Марсель.– Я голоден как пес. Я тебя подожду.
Родольф вошел в кафе, среди завсегдатаев которого бывало много его друзей. Один из них, только что выигравший триста франков, охотно одолжил поэту монету в сорок су, однако сделал это с хмурым видом, характерным для азартных игроков. В другое время и в другом месте он, пожалуй, одолжил бы и сорок франков.
– Ну как?– Марсель, когда Родольф вышел из кафе.
– Вот вся добыча,– ответил поэт, показывая монету.
– На глоток вина с сухариком хватит,– сказал Марсель.
Как ни скромен был их капитал, они все же раздобыли хлеба, вина, колбасы, табаку, света и тепла.
Друзья вернулись к себе в меблированные комнаты. Комната Марселя, служившая ему также мастерской, была больше – поэтому именно ее и решили превратить в пиршественный зал, затем стали готовиться к интимному валтасарову пиру.
Но к столику, за которым они устроились возле камина, где тлели, не разгораясь и не давая тепла, сырые поленья, подсел и печальный гость – призрак минувшего.
Друзья просидели не меньше часа в задумчивости и молчании, поглощенные одной и той же мыслью, которую не хотели выдавать друг другу. Первым нарушил молчание Марсель.
– А ведь мы ожидали, что будет совсем по-другому,– сказал он.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Родольф.
– Ну зачем притворяться? – Марсель.– Ты думаешь о том, что следовало бы забыть, да и я тоже, по правде говоря…
– А что дальше?
– А то, что так не может продолжаться. К черту воспоминания, которые портят вкус вина, а на нас навевают грусть, когда все кругом веселятся!– Марсель, имея в виду оживленные голоса, доносившиеся из соседних комнат.– Давай думать о другом, а с прошлым покончим раз навсегда.
– Мы толкуем об этом уже давно, а между тем…– проронил Родольф, снова погружаясь в свои думы.
– А между тем все возвращаемся к старому,– продолжал Марсель.– Происходит это потому, что мы не стараемся честно забыть прошлое, а, наоборот, не упускаем случая оживить воспоминания, происходит это и потому, что мы не хотим расстаться с той средой, где жили женщины, так долго мучившие нас. Мы рабы скорее привычки, чем страсти. Из этого плена необходимо вырваться, иначе мы совсем погрязнем в нелепом, постыдном рабстве. А ведь прошлое – прошло, нужно порвать все узы, которые еще связывают нас с ним, пора снова двинуться в путь, не оглядываясь назад, время юности, беспечности и парадоксов миновало. Все это прекрасно, об этом можно было бы написать увлекательный роман, но комедия любовных безумств, бесцельная трата времени, которое мы расходовали так, словно в нашем распоряжении целая вечность,– всему этому надо положить конец! Мы больше не можем жить вне общества, почти вне жизни – иначе все нас будут презирать, да и мы сами потеряем к себе уважение. Ведь по правде говоря, разве можно назвать жизнью то существование, которое мы ведем? И не являются ли сомнительными благами та независимость, та свобода нравов, которыми мы так хвалимся? Истинная свобода – в умении обходиться без других людей и жить самостоятельно. Достигли ли мы этого? Нет! Первый же встречный прохвост, с которым стыдно рядом идти по улице, мстит нам, за наши насмешки и становится нашим властелином, как только мы займем у него пять франков, а чтобы их получить, нам приходится хитрить и унижаться на целых пять луидоров. Хватит этого с меня! Ведь поэзию можно черпать не только в беспутстве, в мимолетных радостях, в любовных увлечениях, что сгорают быстрее свечи, не только в эксцентричной борьбе с предрассудками, которые все равно будут вечно царить на земле: легче свергнуть царствующую династию, чем обычай, даже самый нелепый. Ходить в летнем пальто в декабре еще не значит обладать талантом, можно быть настоящим поэтом или художником и быть хорошо обутым, есть три раза в день. Что бы там ни говорили и что бы ни вытворяли, но если хочешь чего-нибудь добиться, надо идти проторенной дорогой. Мои слова, дорогой Родольф, пожалуй, тебя удивят, ты скажешь, что я свергаю свои кумиры, изменяю самому себе, а между тем я говорю от чистого сердца и действительно к этому стремлюсь. Я и сам не замечал, как во мне медленно происходила некая спасительная метаморфоза, непроизвольно, а может быть, даже против воли, я стал поддаваться доводам разума, как бы то ни было, разум заговорил и доказал мне, что я на ложном пути и что идти по нему дальше нелепо и опасно. И в самом деле, что получится, если мы останемся все такими же беспутными бродягами? К тридцати годам мы не составим себе имени и по-прежнему будем одиноки, все нам опротивеет, мы и сами себе опротивеем, начнем завидовать тем, кто достиг хоть какой-нибудь цели, и волей-неволей превратимся в презренных паразитов. Не думай, что я хочу тебя напугать и рисую какую-то фантастическую картину. Глядя в будущее, я не надеваю ни черных, ни розовых очков: я вижу то, что есть. До сего времени мы действительно жили в нужде, и это служило нам оправданием. А теперь у нас уже не будет этого оправдания. И если мы не войдем в русло нормальной жизни – то будем сами виноваты, ибо перед нами уже нет тех препятствий, какие нам прежде приходилось преодолевать.