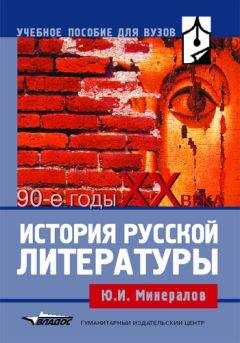Любовь Овсянникова - Преодоление игры
Остается только добавить, что необъяснимые события продолжались еще почти полгода. Так, по возращении домой, в Днепропетровск, в первую зиму после маминого ухода, я имела много исключительно выгодной, а главное — случайно появлявшейся работы. За заработанные деньги мне удалось поправить свое здоровье, обновить зимний гардероб, многое приобрести для крымской квартиры и обеспечить себя лекарствами на целый год.
А ведь мама интересовалась Интернетом и моими друзьями на сайтах, при этом предупреждала: «Чудес не жди, они невозможны. Но странности и совпадения примечай и анализируй.» Вот я и думаю: мама ли подавала мне знаки о том, что есть жизнь после жизни, или это был длинный ряд фантастических и неимоверно коварных совпадений?
Еще и еще…
Морской сезон заканчивался. Мы спешили собраться и выехать, рассчитывая 13 октября, к дню рождения мамы, попасть домой. В этом году ей бы исполнилось 90 лет, проживи она еще два месяца. Как жаль, что этого не случилось!
Но не только это гнало нас из Крыма, торопило и подгоняло скорее оказаться в нашей теплой квартире на третьем этаже одного из наиболее прекрасно расположенных домов Днепропетровска. На море в это лето вообще везения было мало: я, Юра и Саша все время болели простудами, потом я начала выходить на рекорд — дважды меня укусила оса, что при моих аллергиях вылилось в настоящие проблемы, а затем у меня разболелось правое ухо, я перестала им слышать. Хотелось обвинять не только квартиры из цементного бетона, превращающиеся в сырые погреба, едва солнце прекращало палить по–летнему, но и весь полуостров, продуваемый ветрами с запада на восток — пустой, бесприютный, с гулко шумящим безразличным морем. Поэтому мы стремились не просто попасть в родные стены, а прежде всего, уехать оттуда прочь, чтобы прервать цепь бед, преследующих нас, чтобы уцелеть, наконец. Это был не отъезд, а скорее, — бегство.
Юра вовсю давил на газ, а я вся сжалась, как заяц при резвом беге. Картины за окном машины, милые глазу в погожую годину, с радостной скоростью оставались позади. Мне чудилось, что с каждым километром раздвигается горизонт и мы, ступая со ступеньки на ступеньку, выбираемся из безжизненного подвала наверх, к благополучию и беззаботности. Раньше я плакала, расставаясь с Крымом, а теперь… теперь вырывалась из него, как из ловушки. Постепенно проходила окоченелость ног, восстанавливалось кровообращение, выравнивалась температура тела. Незаметно оттаяло сердце и размечталось об устойчивом уюте.
Его–то мы прежде остального и почувствовали, войдя в дом, — оказывается, на нашей широте уже затопили, от батарей струилось ненавязчивое тепло и приникало к телу, обволакивало, баюкало, исцеляя от неласкового крымского лета и знобкой осени.
Пока Юра разгружался и заносил вещи, я успела освежить квартиру — сняла занавески с окон и чехлы со светильников и мебели, протерла пыль, вымыла пол. Впервые за последний месяц легла в постель без грелки и, засыпая, предвкушала утро — с далеко открытым пространством, более светлое, чем крымские утра с туманами, прозрачное, ободряющее, с умной бурливой аурой большого города.
По большому счету все так и оказалось, только был еще привкус ночного видения. Во сне пришла мама и попеняла, что мы плохо снарядили ее в дорогу, вот колготы, дескать, не положили, а ведь осень настала, холодно уже. Просила передать ей.
Я заметалась — и то сказать, ко дню рождения, ставшему теперь днем ее памяти, и так полагалось что–то подарить, а тут еще просьба, почти повеление. А как это сделать? Посещение могилы, цветы — это само собой. Но тут вырисовался исключительный случай. Да как… Мир не без добрых людей. Выйдя после завтрака в город, я остановилась около первого столика выносной торговли, который попался на глаза, заговорила с раскладывающей товар продавщицей, спросила о своем, выслушала охотно сказанный ответ.
— Не вздумайте передавать посылку с покойником. Так иногда делают, но это неправильно, — сказала она мне под конец. — Живая часть вашей мамы просит внимания к живому, а не к земле, покрывающей останки. Поняли? Купите колготы и отдайте живому человеку.
Конечно, я поняла. Проявленное ко мне участие тронуло душу, и я — в знак благодарности, что ли — рассказала продавщице, как договорилась с мамой о том, что она подаст знак, если на том свете что–то есть. Однако, слушая меня и вежливо кивая головой, лоточница уже посматривала по сторонам на прибывающих покупателей, короткими фразами рекламировала товар — людям надо было работать, а не со мной прохлаждаться. Ничего не оставалось, как отойти, что я и сделала, но шагов через несколько была остановлена подергиваниями за рукав. Позади меня оказалась женщина, чуть смущенно улыбающаяся.
— Не сочтите за странность, — сказала она, когда я остановила на ней взгляд, — я невольно слышала ваш разговор у лотка… — Ясно, подумала я, тётенька поняла, что я куплю колготки и кому–то отдам, вот и решила попросить их для себя. А почему нет? Мне ведь все равно, кому они достанутся. — Нет, не подумайте, что я что–то ищу для себя, — словно прочитав мои мысли, уточнила говорившая. — Я хотела сказать относительно вашего с мамой договора… Странно, конечно. Но если там что–то есть, то вашу покупку мама сама заберет.
— Как же она заберет? — я хмыкнула почти с иронией и пристальнее оглядела остановившую меня особу: она была сравнительно молода, ухожена, а ее одежда отличалась, пожалуй даже, вызывающей роскошью. Нет, такая нуждаться в моих подношениях не могла. Да и акцент у нее был нездешний. Вернее, у нее как раз не было акцента — того малороссийского, с которым говорим мы.
— Не знаю, как–то найдет способ. Просто не спешите сами принимать решение.
— А вы кто? — спросила я.
— То есть как — кто? — женщина растерялась.
— Я вижу, что вы нездешняя.
— Ах да, — она улыбнулась и неуверенно переложила сумочку в другую руку, словно в заминке. — Я из Владимира, гощу тут у сестры. Простите… Знаете, это будет страшно, если мама ждет колготки, а они попадут в чужие руки. Вот я и подумала, что надо вам подсказать — она сама их заберет. У меня тоже недавно не стало мамы, — она неловко мотнула головой, жест прощания, и ушла.
В ближайшем киоске я купила колготы, оглянулась — отдать их, действительно, не находилось кому. Спешащие вокруг люди в основной массе были молодые, хорошо одетые, не нуждающиеся — студенческий район, удивляться нечему. Не станешь же ни с того ни с сего совать их проходящим мимо девушкам — засмеют, подумают, что сумасшедшая. Да и согласно толкованию сна и напутствиям, полученным в это утро от лоточницы, для выполнения маминой просьбы требовалась женщина, какой была мама, — старенькая, нуждающаяся в моей помощи. А еще — малоимущая и часто пребывающая на холоде, которой бы те колготы оказались кстати. Конечно, надо идти туда, где люди работают под открытым небом, сообразила я. И таких скорее всего можно найти на рынке. Туда я и направилась.
Не спеша прошла по бывшей Кирпичной улице, которой в разгул оранжевых перемен присвоили имя Гончара, на углу повернула на Паторжинского. Здесь, как и всегда, сколько помню, было тихо и малолюдно, даже пахло по–особому свежо и приятно. Этот элитный район раскинулся на вершине одного из трех холмов, прославивших наш город в книге Шатрова «Город на трех холмах», здесь неизменно ощущался ветерок, а воздух не содержал смога, как в центре, расположенном в распадке между холмами.
Вдруг что–то мягкое и влажное толкнуло меня в ногу повыше колена. И тут же послышался дребезжащий голос: «Ты куда умчался, негодник? Почему меня бросил?» — отвлекший меня от толчка.
Я очнулась от своих воспоминаний, остановилась и увидела чуть в стороне, у бровки, огромного пса из овчарок. Он уже успел обнюхать и меня и ближайшую территорию и теперь сидел со свешенным набок языком и не сводил с меня лучезарного взгляда. Ни в его глазах, ни в позе не было угрозы, я могла бы спокойно пройти мимо, но собачий дружелюбный магнетизм просто не отпускал от себя — столько в нем было неподдельного ликования от нашей встречи.
А с противоположной стороны улицы, стуча впереди себя палочкой, к нам поспешала старушка, хозяйка причинного добряка.
— Это ваш пес? — спросила я.
— Тарзан, как тебе не стыдно! — прикрикнула старушка, но пес, почтительно поднявший от земли зад при ее приближении, только помахал хвостом, чисто как дворняга, и снова уставился на меня. — Мой, — обернувшись ко мне, сказала она. — Вы не бойтесь, он хорошо воспитанный. Это мой поводырь. Нет, я зрячая, но старость… А я люблю гулять на воздухе, хоть там дождь иди, хоть снег.
— Я не боюсь собак, — вставила я.
— Это что–то странное. Не пойму. С ним такого никогда не было. Бросил меня и побежал к вам, чтобы сесть и демонстрировать готовность служить. Просто измена какая–то. Ты что, а? — снова обратилась хозяйка к псу.