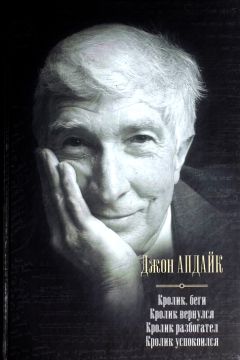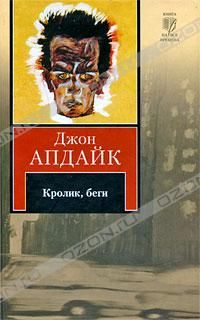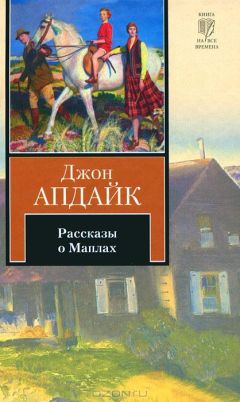Джон Апдайк - Кролик, беги
А потом он идет в церковь и возвращается весь набухший. Какое он имел право идти в церковь? О чем он говорил с Богом за спинами всех этих баб, которые друг с другом перемигиваются? Что ее и вправду бесит, так это пусть бы думали про любовь, когда занимаются любовью, вместо того чтобы думать про что угодно. По их пальцам чувствуешь, думают они про тебя или нет, и сегодня Гарри сначала про нее думал, но потом он стал такой противный, и она разозлилась, потому что он думал только о себе и ничуть не думал, как она устала и как у нее все болит. Это было так грубо.
Просто грубо, и все. Говорит, что она глупая, а ведь он сам глупый – не понимает, как ей плохо, и что, когда он убежал, она стала совсем другой, и как он должен к ней подлизываться, если хочет, чтоб она опять его любила. С самого раннего детства ее приводило в ужас, что никто не знает про твои чувства, и непонятно – никто не может про них знать или никому просто нет дела. Ей не нравится ее кожа и никогда не нравилась она слишком темная как у итальянки хотя у нее никогда не было прыщей как у других девочек и в те дни когда они оба работали у Кролла она продавала соленые орешки и когда Гарри лежал с ней на кровати Мэри Хеннекер ему так нравились серебристые обои и он закрывал глаза и кожа у нее словно растворялась и она думала что вот теперь все кончилось и она уже не одна а с кем-то. Но потом они поженились (раньше она ужасно боялась забеременеть но Гарри уже целый год говорил про женитьбу и засмеялся когда она ему сообщила и сказал «здорово» она ужасно испугалась а он сказал «здорово» и поднял ее на руки как ребенка он мог быть таким чудесным когда она совсем не ожидала в нем было столько хорошего она никому не могла объяснить она так испугалась когда забеременела а он заставил ее этим гордиться) они поженились а она все еще оставалась маленькой неуклюжей темнокожей Дженис Спрингер а ее муж был самоуверенный болван который ни на что на свете не годится так сказал папа и чувство одиночества немножко растворялось если чуть-чуть выпить. Не то что это растворяло комок просто края у него закруглялись и переливались словно радуга.
Она ходит по комнатам и гладит ребенка, пока у нее не начинают болеть руки и ноги, и наконец малютка Ребекка засыпает, обняв ногами грудь, полную молока. Может, дать ей еще, но лучше не надо, раз она спит, пускай спит. Она отнимает бедную невесомую малютку от своего потного плеча и кладет в прохладную тень на кроватке. Уже светает, на восточном склоне горы утро рано приходит в город. Дженис ложится в постель, но свет, который становится все ярче на белых простынях, не дает ей уснуть. Сначала это даже приятно – наступающее утро такое чистое, что у нее появляется то же чувство, как и на второй месяц отсутствия Гарри. Под окном цвела мамина японская вишня, пробивалась травка, и от земли пахло влагой, теплом и золой. Она все обдумала и смирилась с мыслью, что ее замужеству пришел конец. Она родит своего ребеночка и разведется, и больше никогда не выйдет замуж. Она будет вроде монахини, как в том чудном фильме с Одри Хепберн, который она недавно смотрела. А если он вернется, то будет тоже очень просто – она ему все простит и бросит пить, раз его это так бесит, хотя она и не знает почему, и они станут жить вместе очень славно и чисто и просто, потому что он выбросит все из головы и будет очень ее любить за то, что она его простила, а она теперь будет знать, как быть хорошей женой. Она каждую неделю ходила в церковь и разговаривала с Пегги и молилась, и теперь поняла, что выйти замуж – это не значит обрести убежище, а значит все делить с мужем, и думала, как они с Гарри начнут все делить друг с другом. А потом произошло чудо, и эти последние две недели все именно так и было.
А потом Гарри вдруг взял и испортил все грязью этой шлюхи, да еще хотел, чтобы ей все это нравилось, и от несправедливости она начинает плакать навзрыд, хотя и тихонько, словно испугавшись чего-то, что лежит рядом с ней на пустой кровати.
Потом ее охватывает чувство панического страха и удушья. Она встает, бродит по комнате; одна грудь вспухла, в соске колет; она идет босиком на кухню и нюхает пустой бокал от виски, который Гарри заставил ее выпить. Запах густой, резкий, терпкий и глубокий, и она думает, может, один глоток излечит ее от бессонницы. Заставит спать, а потом она проснется от скрежета ключа в замке и увидит, как его большое тело застенчиво ломится в дом, и скажет ему: Ложись в постель, Гарри, все в порядке, делай со мной, что хочешь, я хочу делить с тобой все, правда хочу.
Она наливает всего на дюйм виски и совсем немножко воды, чтобы не очень долго пить, и не кладет ледяных кубиков, чтобы не шуметь и не разбудить детей. Она несет стакан к окну и стоит, глядя через три толевых крыши на спящий внизу город. Кое-где уже зажигаются бледные окна кухонь и спален. Машина с тусклыми дисками фар, которые не отбрасывают лучей в редеющую мглу, медленно едет по Уилбер-стрит к центру поселка. Шоссе, наполовину скрытое силуэтами домов, словно река в поросших деревьями берегах, в этот ранний час уже шуршит от множества шин. Она чувствует, что рабочий день приближается, чувствует, что дома с двускатными крышами внизу скоро проснутся, словно замки, откроют ворота и выпустят наружу своих мужчин, и сожалеет, что ее муж не может приспособиться к ритму, в котором вот-вот начнется новый такт. Почему именно он? Что в нем такого особенного? В ней поднимается волна обиды на Гарри, и, чтобы ее подавить, она осушает стакан и в свете утренней зари отворачивается от окна. Все вещи в комнате окрашены в различные оттенки коричневого цвета. Она чувствует себя какой-то кривобокой, тяжесть невысосанной груди тянет ее книзу.
Она идет в кухню и смешивает еще виски с водой, на этот раз крепче, чем раньше, – пора уже доставить себе хоть капельку удовольствия. С тех пор как она вернулась из больницы, у нее совсем не было времени подумать о себе. Мысль об удовольствии придает легкость и быстроту движениям, она босиком бежит по шершавому ковру к окну, словно там специально для нее сейчас начнется спектакль. Поднявшись в своем белом халате надо всем, что только можно увидеть, она так крепко сжимает пальцами тугую грудь, что молоко течет, образуя теплые пятна на белой ткани.
Влага скользит по телу и стынет в холодном воздухе. От долгого стояния начинают ныть вены на ногах. Она отходит от окна, садится в грязное коричневое кресло, и ее начинает мутить при виде угла, под которым пятнистая стена встречается с желтоватым, как тесто, потолком. Ее качает вверх и вниз, у нее переворачиваются все внутренности. Рисунок на обоях шевелится, словно живой, коричневые пятна цветов плывут во мгле, догоняют и жадно заглатывают друг друга. Какая мерзость. Она отворачивается и внимательно смотрит на зеленый экран мертвого телевизора. Перед ночной рубашки подсыхает, жесткая корка царапает грудь. В книжке по уходу за грудными детьми сказано: держите соски в чистоте. Намыливайте осторожно в царапины проникают микробы. Она ставит стакан на ручку кресла, встает, стягивает через голову рубашку и снова садится. Мшистая поверхность мягко пружинит под тяжестью голого тела. Она кладет измятую рубашку на колени, ловко пододвигает пальцами ног табуретку, укладывает на нее ноги и любуется ими. Она всегда считала, что у нее красивые ноги. Их утончающиеся книзу смутные силуэты белеют на фоне темного ковра. Тусклый свет скрывает синие вены, оставшиеся после того, как она носила Бекки. Неужели у нее будут такие ужасные ноги, как у мамы? Она пытается представить себе лодыжки толщиной с колено, и они будто и вправду начинают пухнуть. Она нагибается, ощупывает узкие твердые кости лодыжек и плечом сбивает с ручки кресла стакан с виски. Она вскакивает, вздрогнув от прикосновения холодного воздуха к голому телу, и вся покрывается гусиной кожей. Вот смеху-то. Если б только Гарри мог сейчас на нее посмотреть. К счастью, в стакане почти ничего не осталось. Она решительно направляется в кухню, совершенно голая, как шлюха, но ощущение, будто кто-то за нею следит, оно появилось, когда она стояла у окна и отжимала молоко, – стало слишком сильным; она ныряет в спальню, закутывается в голубой купальный халат и смешивает виски с водой. От усталости саднит веки, но у нее нет ни малейшего желания ложиться в постель. Кровать внушает ужас, потому что в ней нет Гарри. Его отсутствие – дыра, которая все больше расширяется, и она вливает туда немного виски, но этого мало, и когда она в третий раз подходит к окну, уже настолько рассвело, что видно, как все кругом уныло. Кто-то разбил бутылку об одну из толевых крыш. Канавы на Уилбер-стрит полны грязи, стекающей с новостроек. Пока она смотрит в окно, уличные фонари – длинные бледные цепочки – гаснут один за другим. Она представляет себе человека на электростанции, который выключает рубильник, – он маленький, седой, горбатый и очень сонный. Она подходит к телевизору, и полоса света, внезапно вспыхнувшая на зеленом прямоугольнике, зажигает радость в ее груди; однако еще слишком рано, это просто бессмысленно мерцающее пятно, а звук – всего лишь статичный равномерный шум. Она сидит и смотрит на пустое сиянье, и от ощущения, будто кто-то стоит у нее за спиной, несколько раз резко оборачивается. Она проделывает это очень быстро, но всегда остается пространство, которого она не видит, и этот человек мог нырнуть туда, если он здесь. Это все телевизор – он позвал его в комнату, – но выключив его, она тотчас начинает плакать. Она сидит, закрыв лицо руками, слезы просачиваются между пальцами, и по всей квартире разносятся ее всхлипывания. Она их не подавляет, потому что хочет кого-нибудь разбудить, она больше не может оставаться одна. В белесом свете мебель и стены проступают все более четко, они вновь обретают цвет, а сливающиеся коричневые пятна уходят в себя.