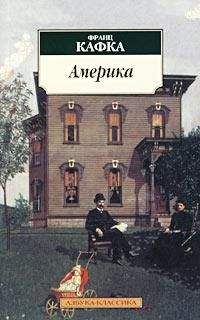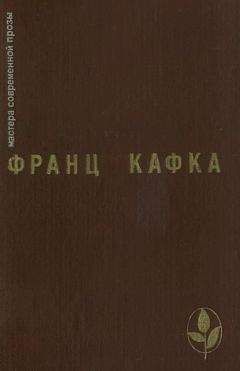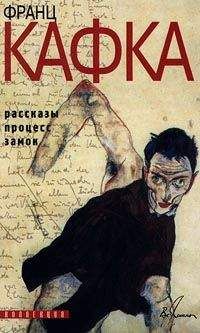Франц Кафка - Замок
Любимым ее местом был уголок кушетки — кушетки этой у нас давно уже нету, она у Брунсвика в горнице стоит, — так вот, на углу кушетки она сидела, и со стороны трудно было понять, то ли она дремлет, то ли, как по движению губ могло показаться, сама с собой какие-то долгие разговоры ведет. И конечно, только естественно было, что мы без конца историю с письмом обсуждали, вдоль и поперек, во всех несомненных подробностях и сомнительных чаяниях, каждый другого стараясь переплюнуть в изобретении верного средства, как все одним махом благополучно разрешить, это было только естественно и неизбежно, однако хорошего тут было мало, ибо мы все больше погрязали в том, от чего стремились спастись. Да и что толку от всех, пусть самых замечательных, придумок, когда без Амалии ни одна не была исполнима, так что весь пыл растрачивался на предварительные обсуждения, совершенно бессмысленные, ибо итоги их до Амалии не доходили, а даже если бы и дошли, встретили бы только молчание, и ничего больше. Что ж, по счастью, сегодня я понимаю Амалию лучше, чем тогда. Ей досталось вынести больше, чем всем нам, просто непостижимо, как она все выдержала и в живых осталась. Матушка, правда, тоже несла на себе все наши беды скопом, но несла просто потому, что они на нее свалились, да и несла недолго, сказать, что она и сегодня их несет, нельзя, у нее уже и тогда мысли путаться начали. Но Амалия не только несла на себе беду, ей было дано понимание этой беды, мы-то видели лишь последствия, она прозревала причины, мы еще надеялись на спасительные соломинки, она знала, что все решено и спасения нет, нам еще оставался наш шепот, ей — только молчание, она стояла перед правдой лицом к лицу, и при этом жила, и выносила такую жизнь, и по сей день выносит. Насколько легче, при всех наших горестях, было нам, чем выпало ей! Разумеется, дом наш нам пришлось оставить, в него въехал Брунсвик, нас определили вот в эту лачугу, на ручной тележке мы за несколько ездок переправили сюда весь свой скарб, мы с Варнавой впряглись в тележку, отец с Амалией сзади подталкивали, мама, которую мы первым делом перевезли, всякий раз встречала нас тихими причитаниями и плачем, сидя на сундуке. Но я хорошо помню, что даже во время тяжких этих перевозок — а ведь это еще и какой позор был, нам то и дело встречались подводы с урожаем, хозяева которых при виде нас только умолкали и отводили глаза, — мы с Варнавой все не могли уняться, все обсуждали наши горести и планы, как от них избавиться, иногда, заговорившись, прямо посреди дороги останавливались, и только отцовский оклик возвращал нас к нашему сиюминутному долгу. Однако и после переезда от всех этих разговоров жизнь наша ничуть не улучшилась, разве что, наоборот, мы мало-помалу почувствовали, как впадаем в бедность. Родня почти перестала нам помогать, собственные наши средства истощились, и как раз в это самое время стало набирать силу общее презрение к нам, какое ты теперь хорошо знаешь. Люди заметили, что у нас нет сил выпутаться из истории с письмом, и вот этого нам не простили, нет, тяжесть выпавшего нам удела никто не оспаривал и не старался преуменьшить, хотя никто толком не знал, насколько он тяжек, однако если бы мы, все преодолев, из-под гнета выбрались, нам, соответственно, по заслугам был бы и почет, но поскольку нам это не удалось, то, что прежде считалось временным, люди сделали окончательным и бесповоротным: с нами оборвали всякое общение; хотя и знали, что сами вряд ли бы выдержали подобное испытание лучше нас, но именно потому сочли необходимым поставить на нас крест. О нас даже говорить по-человечески перестали, фамилию нашу старались не называть, если надо было о нас сказать, говорили о родичах Варнавы, сделав достойным упоминания самого невинного из нас; даже об избушке нашей дурную славу пустили, и если ты сам перед собой лукавить не будешь, то сознаешься, что, когда первый раз к нам вошел, тоже, наверно, подумал, мол, не зря нас так презирают; потом, когда люди изредка снова к нам заходить стали, они по поводу самых пустяковых вещей брезгливо морщились — ну, например, что наша маленькая керосиновая лампа вон там над столом висит. Куда же ее еще вешать, как не над столом, но им это казалось ужасно. Впрочем, когда мы перевешивали лампу в другое место, брезгливость ничуть не уменьшалась. И сами мы, и все связанное с нами встречало теперь неизменное презрение.
19
Прошения
— А что тем временем делали мы? Мы делали худшее из всего, что могли сделать, за что заслуживали презрения куда большего, чем удостаивались на самом деле, — мы предали Амалию, мы вырвались, освободились из-под ее молчаливого приказа, мы не могли больше так жить, да и как жить совсем без надежды, и вот мы начали, каждый на свой лад, осаждать Замок просьбами о прощении. Знали, конечно, что никто из нас не в силах что-либо загладить сам, знали и другое: что единственная наша многообещающая связь с Замком, связь через Сортини, того самого чиновника, который, возможно, отцу благоволил, теперь, как раз по причине происшедших событий, для нас недоступна, и тем не менее взялись за дело. Первым взялся за дело отец, начались его бессмысленные хождения с челобитными к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писарям, по большей части его даже не принимали, а если ему хитростью или игрой случая удавалось записаться на прием — о, как мы ликовали при таком известии, как потирали руки, — его в два счета выпроваживали и никогда больше приема не удостаивали. Да и ответить ему было легче легкого, Замку-то все и всегда легко. Чего он, в сущности, добивается? Что такое с ним произошло? За что он хочет просить прощения? Когда и кто со стороны Замка хоть пальцем его тронул? Да, конечно, он впал в нищету, растерял клиентов, и так далее, но это всё явления повседневной жизни, не столь уж редкий удел ремесленника, законы рынка, разве может Замок буквально во все вникать и обо всем печься? То есть на самом деле он обо всем и печется, но, право, не может он грубо вмешиваться в естественный ход вещей, ни с того ни с сего и ни с какой иной целью, кроме как услужить какому-то одному человеку? Или прикажете посылать в деревню чиновников, чтобы бегали за отцовскими клиентами и силой возвращали их обратно? Но, возражал тут отец, — мы все эти переговоры жадно и горячо обсуждали дома и до, и после, сгрудившись в уголке, словно бы прячась от Амалии, которая, конечно, все видела, но никогда не вмешивалась, — но, возражал тут отец, он ведь не на бедность свою жалуется. Все, что утратил, он легко наживет снова, это пустяки, главное — лишь бы его простили. Но в чем его должны простить? — вопрошали в ответ, ведь никаких заявлений против него не поступало, по крайней мере в протоколах ничего такого пока нет, во всяком случае, в тех протоколах, которые доступны адвокатуре, а следовательно, насколько можно судить, против него ничего не предпринималось и вроде даже не затевается. Или он может назвать какое-нибудь служебное распоряжение, против него выпущенное? Нет, такого распоряжения отец назвать не мог. Или имело место вмешательство какого-либо органа власти? И этого отец не мог утверждать. Ну так если он ничего такого не знает и если ничего такого не произошло — чего он тогда хочет? Что прикажете ему прощать? Разве только, что он понапрасну беспокоит власти, но вот это как раз совершенно непростительно. Отец, однако, не сдавался, в ту пору он еще очень крепкий был мужчина и времени при вынужденном безделье имел предостаточно. «Я верну Амалии ее доброе имя, потерпите, недолго осталось», — говорил он Варнаве и мне по нескольку раз на дню, но говорил очень тихо, чтобы Амалия ни в коем случае не услышала; правда, по сути, говорилось это как раз для Амалии, хотя на самом деле отец о добром имени уже не помышлял, только о прощении. Но чтобы получить прощение, надо установить вину, а какую бы то ни было вину власти отрицали. И тогда он вбил себе в голову — пожалуй, это уже было признаком некоторого помутнения рассудка, — что вину от него утаивают, потому что он недостаточно платит; ведь прежде он платил только положенные пошлины, которые, впрочем, по крайней мере для нас, и так были достаточно высоки. Но теперь он решил, что платить надо больше, и, разумеется, это была ошибка, ибо в наших канцеляриях для простоты дела, во избежание лишних препирательств, взятки хотя и берут, но толку от этого все равно никакого. Однако, раз отец возлагал на эти подкупы такие надежды, мы не осмеливались ему перечить. Мы продали все, что у нас еще оставалось, — считай, что самое последнее и насущное, — лишь бы обеспечить отцу средства для его мытарств по канцеляриям, и долгое время чуть ли не вся наша гордость состояла в том, чтобы отец, собираясь утром в свои походы, мог положить в карман хоть несколько монет и при необходимости ими позвякивать. Правда, мы сами из-за этого целыми днями сидели впроголодь, а единственная польза от этих денег сводилась к тому, что благодаря им мы поддерживали в отце некоторую видимость надежды. Только вряд ли это вправду была польза. Он лишь изводил себя в этих хождениях, и муки, которым без денег уже вскоре пришел бы вполне заслуженный конец, только понапрасну растягивались. Поскольку на самом деле ничего существенного этими переплатами достигнуть было нельзя, какой-нибудь писарь изредка делал вид, будто пытается что-то предпринять, обещал навести дополнительные справки, намекал, что якобы уже обнаружил кое-какие следы и не по долгу службы, а исключительно из расположения к отцу сулил их распутать, в итоге отец, вместо того чтобы усомниться в успехе, верил в него все больше. Когда удавалось заручиться подобными, заведомо бессмысленными обещаниями, он приходил с таким видом, словно несет в дом окончательное избавление от всех бед, и было невыносимо видеть, как он за спиной Амалии, с многозначительно-хитрой улыбкой указывая на нее широко раскрытыми глазами, дает нам понять, сколь близко благодаря его усилиям спасение дочери, которое уже ни для кого, кроме нее самой, не станет сюрпризом, но пока это секрет и не дай нам бог проболтаться. Оно, конечно, долго бы еще так тянулось, если бы в конце концов мы оказались совершенно не в силах снабжать отца деньгами. Правда, Брунсвик тем временем после долгих уговоров и просьб согласился взять Варнаву в подмастерья, впрочем, с условием, чтобы работу тот забирал, только когда стемнеет, и приносил тоже затемно; надо признать, ради нас Брунсвик пошел тут для своего дела на известный риск, впрочем, и платил он Варнаве сущие гроши — а ведь работа у Варнавы всегда безупречная, — так что платы этой нам едва-едва хватало, чтобы не помереть с голоду. Стараясь щадить отца, мы долго готовили его к известию о прекращении денежной поддержки, однако он принял его на удивление спокойно. Умом понять безнадежность своих попыток он уже вряд ли был способен, но, видно, попросту ослаб от бесконечных разочарований. Он хоть и говорил — а говорил он теперь совсем не так внятно, как прежде, прежде речь его, пожалуй, даже чрезмерной отчетливостью отличалась, — что ему бы еще совсем немного денег, и не сегодня-завтра он бы все выведал, а теперь все расходы зазря, только из-за нехватки денег все и сорвалось и так далее в том же духе, но по тону его слышно было, что он и сам в свои речи не верит. К тому же против всех ожиданий у него тотчас появились новые идеи. Раз ему не удалось выявить вину и, следовательно, обычным служебным порядком ничего достигнуть не удалось и не удастся, он решил полностью переключиться на просьбы, завоевывая расположение чиновников личным подходом. Ведь есть, наверняка есть среди них люди с добрым, сострадательным сердцем, следовать велениям которого в служебное время они просто права не имеют, зато вне службы, если застигнуть их врасплох в подходящую минуту, последуют наверняка.