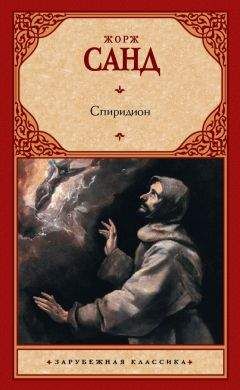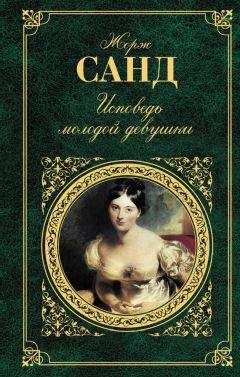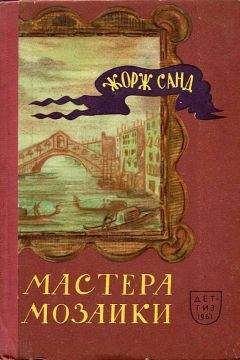Жорж Санд - Спиридион
Что же касается Иоахима Флорского и его учения – «иоахимизма», то здесь не место останавливаться на его содержании более подробно, и не только потому, что богословские тонкости плохо уживаются с жанром послесловия к роману. Дело в том, что пророчества сами по себе всегда туманны; абстрактность заложена в их природе. Так было и в XII, и в XIX веке, и Санд, используя в своем романе старинные еретические доктрины и современные «гуманитарные» учения, сохраняет их изначальную неопределенность: царство духа наступит, но в чем оно будет заключаться конкретно, сказать затруднительно. Однако, с другой стороны, Санд создает не философский трактат и не богословское рассуждение; она пишет роман, в котором философские и богословские абстракции должны обретать более или менее конкретную, осязаемую форму. С литературной точки зрения «Спиридион» чрезвычайно интересен именно теми средствами, которые использует Санд для своего рода «материализации» теоретических идей.
«Спиридион» – роман, в котором действующими лицами являются не только и не столько люди, сколько идеи. Поэтому здесь совершенно естественно звучат пассажи, где роль подлежащих исполняют абстрактные существительные, обозначающие разнообразные человеческие свойства: «Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; […]; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности». Поэтому традиционная завязка «Спиридиона», напоминающая «черный», готический, монастырский роман (таинственные гонения, которым подвергают злобные и лицемерные монахи юного послушника), обманчива: если в готическом романе в монастырских декорациях разворачивается любовная драма, то драма, разыгрывающаяся в том монастыре, который описан в «Спиридионе», – совсем другого рода; это драма идеи и той рукописи, в которой эта идея запечатлена.
Сходным образом обманчива и мистическая атмосфера романа: призрак, являющийся главному герою, оживающий портрет (след чтения Гофмана, под сильнейшим влиянием которого Санд находилась в юности). На самом деле писательница тщательно стремится избежать и мистики, и вульгарных бытовых интерпретаций. Отец Алексей поначалу мучительно выбирает одно из двух истолкований тех странных видений, которые предстают его взору: сумашествие или чудо? Между тем Санд усвоила от Пьера Леру доктрину бессмертия души как постоянного метемпсихоза, постоянного возрождения каждой личности в людях, принадлежащих к следующим поколениям. Эта доктрина помогает героям романа «снять» дилемму «безумие или чудо» как несущественную. До тех пор, пока человека и его мысли помнят потомки, он жив.
«Скорее море перестанет отражать небесную лазурь, чем образ любимого исчезнет из памяти любящего, – внушает Спиридион своему ученику Фульгенцию, – да и художники, запечатлевающие физический облик человека на полотне или в мраморе, также даруют умершим род бессмертия».
Спиридиону много лет спустя вторит Алексей, объясняющий, что люди прошлого, прежде всего люди-творцы, оживают благодаря потомкам, воскрешающим их в своей памяти.
Санд свято верила в то, что созидаемая ее учителями новая религия – религия просвещенная (отчасти по этой причине во второй редакции Спиридион сделан бенедиктинцем; этот орден, в отличие от францисканцев, к которым принадлежал аббат в первой редакции, известен своей приверженностью к ученым трудам), что она не будет отвергать достижений науки, а, напротив, вберет их в себя. Эта убежденность материализуется в романе с помощью лейтмотива света. Призрак аббата Спиридиона – Дух, носитель истины – является героям исключительно в луче света и в нем же и растворяется, а в могилу с собой уносит, среди прочего, переписанное его духовным наставником Иоахимом Флорским Евангелие от Иоанна, где одна из подчеркнутых переписчиком (то есть особенно важных) фраз гласит: «И свет во тьме светит». Весь позитивный образный ряд романа связан со светом. Отшельник, наделенный даром деятельного добра, «впитывает солнце»: «При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног». Отец Алексей внушает своему ученику: «Да, Анжель, какие бы суровые испытания ни подстерегали нас на пути к истине, мы обязаны искать ее неустанно; лучше ослепнуть, глядя на солнце, нежели оставаться зрячим, не видя ничего, кроме земли, и пряча глаза от сияющего света». Стремясь убедить ученика в благотворности революции (несмотря на все ее эксцессы), тот же персонаж говорит: «Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу».
Конечно, «Спиридион» – роман идей и абстрактных понятий. Однако в его тексте абстракции «материализуются», причем весьма оригинальным образом. Роман начинается в атмосфере совершенно оторванной от реальности: непонятно не только, за что преследуют монахи невинного послушника Анжеля, непонятно, в какое время и в какой стране все это происходит: читатель не знает, ни где расположен монастырь, куда удалился Анжель, ни какой год или хотя бы какой век на дворе. Некоторые уточнения даются читателю очень постепенно: сначала из биографии аббата Спиридиона выясняется, что действие происходит в XVIII веке и что монастырь расположен где-то в Италии. Но поначалу и эти сведения остаются просто констатацией, они никак не используются и не обыгрываются; лишь в дальнейшем из монолога отца Алексея, который несколько раз апеллирует к «своему веку», выясняется, что где-то за пределами монастыря выпускают книги французские философы, что во Франции произошла революция. Но главный сюжет продолжает разворачиваться не столько в исторической действительности, сколько в душе героев, выясняющих отношения с Богом [31] . Между тем эта самая историческая действительность постепенно приближается к монастырю: в рассказе отца Алексея возникает фигура безымянного молодого корсиканца, адепта воли и силы, в котором нетрудно опознать будущего императора Наполеона, а еще через несколько страниц вдали раздается канонада: это стреляют французы, завоевавшие Италию. Тут время повествования наконец определяется с точностью до года – 1796; канонада звучит все громче: французская армия приближается к монастырю, а вместе с ней к монастырским стенам приближается сама история, которая и врывается в бенедиктинскую обитель более чем грубо и зримо – в лице пьяных и алчных французских солдат, сбрасывающих с алтаря изображение «Христа-санкюлота». И здесь, буквально на полуслове, роман обрывается – точно так же, как, по мнению Санд, во время революции прервалось, не завершившись, создание новой религии (национальной, республиканской и социальной), которую замыслили Робеспьер и Сен-Жюст – «люди великие, хотя и запятнанные страшной эпохой, их породившей». [32]
Иначе говоря, главная мысль Пьера Леру и его верной ученицы Жорж Санд – мысль о постоянном движении человечества вперед, к новым истинам – материализуется в строении романа, в его постепенном движении из «безвоздушного пространства», в котором он начинается, к конкретности – страшной конкретности – реальной жизни. Впрочем, эта-то реальная жизнь в романе не описана. В полном соответствии с установками «гуманитарной», социальной религии Пьера Леру Санд посылает своего героя «в мир»: «Теперь прощай, дитя мое, тебе пора покинуть монастырь и возвратиться в мир». Однако Санд честно предупреждала, что умеет ставить вопросы, но далеко не всегда умеет отыскивать ответы. Что именно делать герою в миру, она сказать не могла – и потому роман обрывается как бы на полуслове. Герой-повествователь лишается чувств; судьба его неясна.
Но зато ясно, что для самой писательницы (и, как показала история восприятия романа, для его читателей) роман «Спиридион» имел огромную «терапевтическую» силу. В процессе его сочинения Жорж Санд нашла выход из того «экзистенциального» отчаяния, в котором пребывала еще несколькими годами раньше, в пору сочинения первого варианта «Лелии». Впереди у писательницы был разрыв с Пьером Леру, обретение новых духовных наставников, участие в политической и общественной деятельности во время революции 1848 года, а затем разочарование в ней, однако тот оптимизм и та вера в человечество, какими она прониклась в конце 1830-х годов, остались при ней до конца жизни. Убеждения и идеалы, обретенные ею в этот период и укрепившиеся в дальнейшем, дали основания Достоевскому сказать в «Дневнике писателя»: