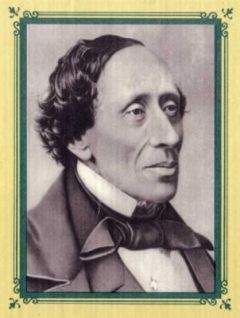Ганс Андерсен - Импровизатор
Меня восхищало и увлекало все истинно прекрасное и возвышенное. В спокойные минуты я часто думал о своих воспитателях, и мне казалось тогда, что они в природе и мировой жизни, которыми я только и жил и дышал, изображали что-то вроде суетливых ремесленников. Самый мир представлялся мне девушкой-красавицей, которая приковывала к себе мое внимание своим умом, красотой, грацией, словом, всеми своими и внутренними, и внешними достоинствами. Но вот сапожник кричит мне: «Обратите же внимание на ее башмаки! Какова работа! Это ведь главное!» Модистка же настаивает: «Нет, главное — это платье! Взгляните только на покрой! Займитесь одним платьем! Вникните в его цвет, изучите его основательно!» — «Не то! — перебивает парикмахер. — Вы должны разобрать ее прическу!» — «Главное, однако, ее речь!» — вопит в свою очередь филолог. «Нет — манеры!» — не соглашается танцмейстер. «Господи Боже мой! — вздыхал я. — Да меня привлекает в ней все вместе! Я вижу все эти отдельные красоты, но не могу же я в угоду вам сделаться сапожником или портным! Мое призвание — чувствовать и познавать красоту в целом! Не сердитесь же на меня за это и не осуждайте меня, люди добрые!» — «А, наша точка зрения для вас слишком низка! Не довольно высока для вашего поэтического гения!» — слышу я в ответ язвительные насмешки. Да, нет такого жестокого животного, как человек! Будь я богат и независим, дело живо приняло бы совсем иной оборот. Теперь же все были умнее, основательнее и благоразумнее меня! И вот я научился вежливо улыбаться, когда меня душили слезы, почтительно кланяться, когда мне хотелось презрительно отвернуться, и со вниманием выслушивать пустую болтовню глупцов. Притворство, горечь и отвращение к жизни — вот каковы были плоды того воспитания, которое навязали мне обстоятельства и люди. Мне постоянно указывали на мои недостатки; но разве во мне так-таки и не было ничего хорошего? Приходилось самому отыскивать это хорошее и ставить его на вид людям, но те, сами же заставляя меня углубляться в самого себя, упрекали меня за то, что я слишком ношусь с самим собою! Государственный деятель называл меня эгоистом за то, что я не посвящал всего себя тому, что составляло его конек. Молодой дилетант, любитель искусств, родственник семейства Боргезе, поучал меня, как мне следует мыслить, судить и писать, и в наставлениях его всегда проглядывало желание выказать в присутствии других свое превосходство над бедным пастушонком, который был обязан сугубой благодарностью за то, что такой знатный господин снисходит до него. Дворянчик, интересовавшийся только своей конюшней, считал меня препустым созданием за то, что я не обращал внимания на его лошадей. Не сами ли все эти господа были эгоистами? Или, может быть, они были правы? Что ж, я ведь был бедный сирота, всеми облагодетельствованный! Но если у меня и не было благородного имени, то была благородная душа, живо чувствовавшая малейшее унижение. И вот я, готовый прежде привязываться к людям всею душою, превращался мало-помалу, как жена Лота, в горький соляной столб. Я ожесточался, вооружался упорством; минутами просыпалось во мне и сознание моего духовного превосходства, но, скованное цепями рабства, оно превращалось в демона высокомерия, который уже свысока смотрел на нелепые выходки моих умных учителей и нашептывал мне: «Имя твое будет жить и тогда, когда их имена давно будут забыты или же будут вспоминаться только в связи с твоим, как гуща и капли горечи, попавшие в твою жизненную чашу». Я вспоминал Тассо и тщеславную Леонору, гордый герцогский двор, память о котором живет еще единственно благодаря Тассо. Замок герцогов Феррарских стал мусором, а темница поэта — местом поклонения. Я сам сознавал все тщеславие таких рассуждений, но при подобной обстановке и методе воспитания сердце мое или должно было проникнуться тщеславием, или истечь кровью. Снисходительность и ободрение сохранили бы чистоту моих помыслов и мягкость души; каждая ласковая улыбка, каждое приветливое слово были бы солнечными лучами, растопляющими ледяную кору тщеславия, но на сердце мне чаще капал яд, нежели падали солнечные лучи.
Я уже перестал быть таким добрым, как прежде, но меня называли превосходным молодым человеком; я ревностно изучал литературу, природу, мир, самого себя, а между тем обо мне все-таки говорили: он ничему не хочет учиться! И такое воспитание продолжалось шесть, даже семь лет! Но в конце шестого года в жизни моей произошла некоторая перемена. В эти шесть долгих лет, разумеется, произошло много событий, гораздо более значительных, нежели те, на которых я останавливался до сих пор, но все они слились в одну каплю горечи, какой отравляется существование каждого талантливого человека, если он не богат или не имеет связей.
Я был аббатом, приобрел себе в Риме как импровизатор некоторое имя, так как не раз импровизировал в Академии Тиберина и всегда удостаивался бурных одобрений. Но, как справедливо говорила Франческа, академики осыпали похвалами все, что только читалось в их кругу. Аббас Дада играл в академии выдающуюся роль благодаря своей болтливости и плодовитости своего пера. Коллеги находили его односторонним, ворчливым и несправедливым и все же терпели его в своей среде, а он знай себе писал да писал. Он просматривал мои — как он выражался — писанные водяными красками произведения, но уже не находил во мне и следа того дарования, какое видел в те времена, когда я еще смиренно преклонялся перед его суждениями. Оно, по его мнению, умерло в самом зародыше, и друзьям моим следовало бы не допускать появления в свет моих якобы поэтических произведений, а в сущности-то лишь поэтических уродов.
— Вся беда в том, — говорил он, — что великие поэты писали иногда в очень молодые годы, ну, и он туда же за ними!
Об Аннунциате я ничего не слышал; она точно умерла для меня, наложив перед смертью свою холодную руку на мое сердце, чтобы оно стало еще отзывчивее ко всяким болезненным ощущениям. Мое пребывание в Неаполе и все вынесенные оттуда впечатления являлись теперь в моей памяти чем-то вроде прекрасной окаменелой головы Медузы. Когда дул удушливый сирокко, я вспоминал морской воздух Пестума, Лару и сияющую пещеру. Стоя, как школьник, перед своими учителями и воспитателями мужского и женского пола, я вспоминал рукоплескания разбойников в горах и публики в театре Сан-Карло. Забившись в уголок, чувствуя себя одиноким и чужим для всех, я вспоминал о Санте, простиравшей ко мне руки и молившей: «Убей меня, но не уходи!» Так прошли шесть долгих лет воспитательного искуса; мне исполнилось двадцать шесть лет.
За все это время я ни разу не видел малютки Фламинии, «маленькой игуменьи», как прозвали дочь Франчески и Фабиани, которую я носил крошкою на руках и потешал разными смешными картинками собственного изделия. Она с колыбели была посвящена святым отцом в невесты Христа и воспитывалась в женском монастыре у Кватро-Фонтане, откуда ее никогда не выпускали. Сам Фабиани не видел ее уже шесть лет; только Франческа, как мать и женщина, могла навещать девочку. Фламиния, как рассказывали мне, сильно выросла и развилась и физически, и духовно под руководством благочестивых сестер. Согласно обычаям, маленькая игуменья должна была на несколько месяцев вернуться к своим родителям и насладиться светскими удовольствиями, прежде чем проститься с ними навеки. Таким образом, выбор между шумным светом и тихим монастырем зависел как будто от самой девушки, но ведь все ее воспитание, начиная с детских игр в куклы, одетые монахинями, и кончая безвыходным пребыванием в монастыре в течение шести лет, было направлено к тому, чтобы она всеми своими помыслами отдалась монашеской обители. Проходя по Кватро-Фонтане, где находился монастырь, я часто думал о милой девочке, которую носил на руках. Как она, должно быть, переменилась с тех пор, как тихо текла ее жизнь за стенами монастыря! Раз я побывал и в самой монастырской церкви и слышал пение монахинь, стоявших за решеткой. «Там же стоит, может быть, и маленькая игуменья!» — думал я, но не посмел спросить, принимают ли пансионерки участие в церковном пении. Из хора особенно выделялся один удивительно высокий, чистый и звонкий, но какой-то грустный голос. Как он напоминал голос Аннунциаты! Я как будто услышал ее самое, и воспоминания переполнили мою душу.
— В следующий понедельник приедет наша маленькая игуменья! — сказал Eccellenza, и я нетерпеливо стал ожидать свидания с нею. Она представлялась мне такой же пойманной птичкой, как и я сам; пусть насладится свободой! Я встретился с девушкой в первый раз за обеденным столом. Она была высока ростом, довольно бледная и на первый взгляд далеко не могла показаться красивой, но все лицо ее дышало какой-то особенной искренней добротой и кротостью. За обедом присутствовали лишь некоторые близкие родственники. Никто не представил меня Фламинии, и сама она, по-видимому, не узнала меня, но отзывалась на мои редкие замечания с такой приветливостью, к какой я вообще не привык. Ей удалось поэтому втянуть меня в общий разговор. Я чувствовал, что она не делала никакой разницы между мною и всем остальным обществом, — видно, она не знала, кто я был такой! Все были веселы, рассказывали анекдоты и комические приключения, и маленькая игуменья много смеялась. Это ободрило меня, и я решился пустить в ход несколько каламбуров, имевших в то время большой успех в светских гостиных Рима. Но каламбуры эти насмешили только Фламинию, все же остальные даже не улыбнулись и заявили, что таких плоских острот не стоит и повторять. Напрасно я уверял, что над ними смеются во всех светских кружках.