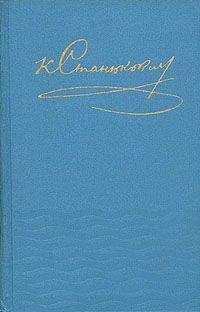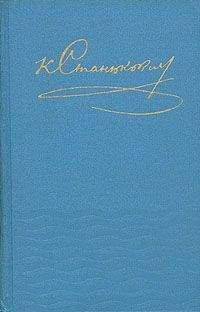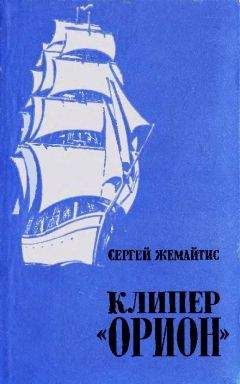Константин Станюкович - Похождения одного матроса
И опять, как тогда, Чайкин прошел в уединенную аллею и присел на скамейку и слушал музыку. Но зато какая была разница в настроении!
Тогда он был полон тоски приниженного, подневольного существа, душа которого болела, оскорбленная позорным наказанием и возмущенная поруганием человеческого достоинства, — а теперь он свободно, без страха и трепета, отдавался весь наслаждению льющихся звуков и чувствовал себя совсем другим человеком…
Прошло с полчаса, как Чайкин сидел один на скамейке, унесенный в мир каких-то неопределенно хороших грез и мечтаний о будущем, когда неожиданно громко раздавшаяся русская речь заставила его поднять голову, и он увидел в нескольких шагах высокую, длинную фигуру рыжеватого старшего офицера и небольшого роста, кругленького и свеженького как огурчик, лейтенанта Погожина. Матросы «Проворного» звали Погожина «Волчком» за его постоянную суетливость на вахтах, но любили, так как Погожин был «добер» и редко, редко когда приказывал наказывать линьками.
Оба они, одетые в статское платье, в цилиндрах, несколько сбитых на затылок, имели вид людей, только что хорошо пообедавших и выпивших настолько, чтобы ходить прямо, а не «дрейфовать», по выражению моряков, и только чувствовать чрезмерную веселую приподнятость и отвагу.
— Присядем, Иван Николаевич! Здесь хорошо! — предложил хорошо знакомый Чайкину, заставлявший не раз его трепетать басистый голос старшего офицера.
И вслед за этими словами они сели на скамейку рядом с Чайкиным.
Тот притих и любопытно ждал, о чем они будут разговаривать. Никогда он не видал старшего офицера в его, так сказать, неслужебном виде и не с сердитым суровым лицом, какое у него обыкновенно бывало во время авралов, учений и вообще в то время, когда он показывался матросам.
Очевидно, ни тот ни другой не узнали Чайкина, далекие от мысли, что этот прилично одетый «вольный» господин с широкополой шляпой на голове — тот самый матрос, который и не подумал бы сидеть рядом с ними.
— А вечером в театр, Петр Петрович? — спросил, слегка заплетая языком, лейтенант Погожин.
— Можно и в театр, Иван Николаевич… А право, славно здесь. Очень хорошо! — произнес старший офицер, впадая в несколько мечтательное настроение под влиянием нескольких рюмок виски, хереса и кларета и нескольких бокалов шампанского, выпитых за обедом.
И лицо его было такое добродушное, что Чайкин удивился и подумал:
«Совсем другим человеком оказывает, как на берегу очутился!»
— Небось и вам надоело плавание, Петр Петрович, а? Хочется в Россию да пожить на берегу?
— А вы думаете, как? Так бы и закатился в деревню…
— Вы, кажется, тамбовский?
— Тамбовский… Под Тамбовом и имение наше… Мои старики там живут… Хочется повидать их…
— А я к невесте закачусь, как вернемся.
— Куда?
— В Москву. Она москвичка. Вернетесь и, пожалуй, тоже надумаете жениться, Петр Петрович…
Старший офицер ничего не ответил, и на его лицо набежала тень.
— Вы вот спрашивали, Иван Николаевич, надоело ли мне плавание… — начал он.
— Спрашивал… это верно, Петр Петрович…
— А почему спрашивали?
— Да потому, что вы как будто и не скучаете по России.
— Не скучаю? А вы думаете, мне не очертело плавание. Не надоело с утра до вечера собачиться?.. Вы думаете, я об этом ничего не говорю, так, значит, и доволен?.. Вы как полагаете, весело мне с «Бульдогом» служить, что ли?.. Знаете небось чего он требует от старшего офицера?.. Чтобы на клипере была чистота умопомрачающая, чтобы матросы работали по секундам!.. Зверь порядочный… Недаром же «Бульдог»…
«Ишь как он честит капитана, а сам-то почище его будет!» — опять подумал Чайкин.
И как бы в подтверждение его мыслей молодой лейтенант спросил:
— Так зачем же вы собачитесь каждый день, Петр Петрович, если это вам неприятно? Разве нельзя не собачиться?
— Вот будете старшим офицером, тогда и увидите…
— Нет, не увижу…
— Увидите, что иначе нельзя…
— А я думаю, что можно, Петр Петрович… И вы меня извините, Петр Петрович, если я здесь, на берегу, вам частным образом скажу одну вещь…
— Что ж, говорите одну вещь…
— И вы не рассердитесь?
— А не знаю, какую вещь вы скажете, Иван Николаевич.
— Давно уж я собирался вам сказать, да не приходилось… А сегодня, знаете ли, пообедали вместе… мадера… шампанское… ликеры… все располагает к откровенности…
— Да вы не юлите, Иван Николаевич… Лучше прямо валяйте…
— И вальну, Петр Петрович… Вы думаете, я боюсь… Вы старший офицер на клипере, а здесь… здесь кто вы такой, а? позвольте вас спросить? — с пьяноватым добродушием спросил лейтенант Погожин, уставившись своими замаслившимися карими глазами на старшего офицера с таким выражением, будто бы лейтенант доподлинно не знал, кто такой сидит рядом с ним, развалившись на скамейке, с манилкой во рту, полуприкрытом густыми и взъерошенными рыжими усами.
— Кто я такой? — спросил, улыбаясь, старший офицер.
— Да, я желаю знать, кто вы такой здесь на берегу?
— Лейтенант флота, Петр Петрович Астапов. А вы кто такой?
— Я?
— Вы.
— И я лейтенант флота, Иван Николаевич Погожин… И, следовательно, здесь вы для меня не старший офицер, а просто Петр Петрович, с которым мы приятно провели время и проведем не менее приятно вечер… Так, что ли, Петр Петрович?
— Совершенно верно.
— Так я и скажу вам, что вы, Петр Петрович, уж очень того… собачитесь. Вы извините меня, а ведь так нельзя…
— То есть что нельзя?..
— Собачиться так, как вы… Ведь люди же и они, Петр Петрович, и такие еще люди, что за ласковое слово что угодно сделают. Знаете ли вы это, Петр Петрович?.. А ведь вы, в сущности, не зверь же, а между тем…
— Они привыкли! И вы напрасно эту филантропию разводите, Иван Николаевич.
— А на «Голубчике», у Василия Федоровича Давыдова отчего ни одного человека ни разу не наказали?.. Между тем разве «Голубчик» хуже «Проворного»?.. Разве «Голубчик» не образцовое по порядку судно? Разве там работают не так хорошо, как у нас… Разница только та, что на «Голубчике» матросы работают за совесть, а у нас за страх… На «Голубчике» они живут по-людски, без вечного трепета, а у нас… небось сами видите… Значит, можно, Петр Петрович… И настолько можно, что вот скоро выйдет приказ об отмене телесных наказаний. Слышали, что готовится эта отмена? Как же вы тогда будете?
— Тогда и я не буду…
— А как же вы говорите, что без этого нельзя… Эх, Петр Петрович!..
Чайкин взволнованно слушал молодого лейтенанта, взглядывая по временам на него восторженно-благодарным взглядом за эти речи.
И Чайкин заметил, или ему так хотелось это заметить, что старший офицер, слушая эти откровенно обличительные речи подвыпившего младшего товарища, не только не гневался, а, напротив, как будто бы затих в каком-то раздумье, словно бы в нем пробуждалось сознание виноватости, которую он только что понял…
И он ничего не ответил лейтенанту и упорно молчал.
«И его зазрила совесть. Небось как в понятие вошел, так и совесть оказала!» — решил Чайкин со своей обычной простодушной верой в конечное торжество совести.
А Погожин между тем продолжал:
— Вот вы говорите, что привыкли. А Чайкин же в прошлом году скрылся здесь, в Сан-Франциско…
Чайкин невольно вздрогнул, когда упомянули его имя.
— А ведь какой исправный и тихий матросик был этот Чайкин, и как все его любили… мухи не обидит! А знаете ли, почему он остался здесь?
— Почему? — автоматически спросил старший офицер.
— Потому, что опоздал на шлюпку с берега и боялся, что будет наказан.
Старший офицер молчал.
— Вы сердитесь, Петр Петрович?.. Что ж, сердитесь… а я наконец не мог… И то молчал, позорно молчал два года, а теперь вот… выпил… и все вам выложил…
— Я не сержусь, Иван Николаевич! — тихо ответил старший офицер и прибавил: — Вы должны были сказать то, что сказали…
— То-то, должен был… И знаете ли что, Петр Петрович?
— Что?
— Теперь у меня как будто гора с плеч упала, и мои отношения к вам стали легче… По крайней мере вы знаете, как я думаю…
— Я знал… И знаю, что все мичманы так же думают… А Чайкина жаль… Тихий, исправный матрос был… Только щуплый какой-то и боялся очень наказаний… Я, может быть, его бы и простил тогда…
— Он этого не мог знать…
— Разумеется, не мог… А откуда вы знаете, что он опоздал тогда на шлюпку и от этого остался здесь? — спросил вдруг старший офицер.
— Вчера его капитанские вельботные видели.
— Небось нищенствует здесь?..
— Никак нет, вашескобродие! — вдруг не выдержал Чайкин и, поднявшись со скамейки, почтительно поклонился, приподнявши свою шляпу.
Оба офицера глядели на Чайкина изумленные. Казалось, хмель выскочил из их голов.
— Ты… Чайкин? — спросил старший офицер, настолько ошалевший при виде беглого матроса в образе приличного джентльмена, на котором статское платье сидело, пожалуй, не хуже, если не лучше, чем на нем самом, что не сообразил нисколько своего вопроса.