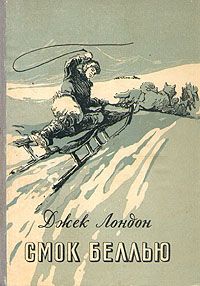Джек Лондон - Джек Лондон. Собрание сочинений в 14 томах. Том 10
— Я рада, что вы не пытались убежать, — сказала она. — Видите, я… — Она замялась, но глаз не опустила, и нельзя было не понять, что означает льющийся из них свет. — Я зажгла свой костер, зажгла, конечно, для вас. Мой час настал. Вы мне милее всех на свете. Милее, чем отец. Милее, чем тысяча Либашей и Махкуков. Я люблю. Это так странно. Люблю, как Франческа, как Изольда. Старик Четырехглазый говорил правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза и белая кожа. Мы оба белые, вы и я.
Никогда еще ни одна женщина не предлагала Смоку руку и сердце, и он не знал, как себя вести. Впрочем, это было даже не предложение. В его согласии никто и не сомневался. Для Лабискви все это было так просто и ясно, такой нежностью лучились ее глаза, что Смоку оставалось только удивляться, почему она еще не обняла его и не склонилась головой ему на плечо. Потом он понял, что хотя она искренна и простодушна в своей любви, но нежные ласки влюбленных ей незнакомы. Первобытные дикари их не знают. Лабискви негде было этому научиться.
Она все лепетала, изливая любовь и радость, переполнявшую ее сердце, а Смок собирался с духом, — надо же как-нибудь открыть ей горькую правду… Казалось, желанный случай представился ему.
— Но послушайте, Лабискви, — начал он, — вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?
Она всплеснула руками и радостно засмеялась:
— Это еще не все! Я так и знала, что это еще не все про любовь! Я много думала с тех пор, как зажгла свой костер. Я…
Но тут сквозь завесу падающего снега к костру шагнул Снасс — и удобный случай был упущен.
— Добрый вечер, — буркнул Снасс. — Ваш приятель натворил тут черт знает чего. Хорошо, что хоть вы оказались умнее.
— Может, вы мне скажете, что случилось? — спросил Смок.
Зубы Снасса, удивительно белые по сравнению с прокопченной дымом костров бородой, блеснули в недоброй усмешке.
— Конечно, скажу, — ответил он. — Ваш приятель убил одного из моих людей. Это жалкое ничтожество Мак-Кен струсил при первом же выстреле. Больше он не удерет. Вашего приятеля ловят в горах мои охотники — и они его изловят. Юкона ему не видать. А вы теперь будете спать у моего костра и с охотниками больше не пойдете. Я сам буду приглядывать за вами.
VIII
Переселившись к костру Снасса, Смок попал в затруднительное положение. Теперь он гораздо больше виделся с Лабискви. Она ничуть не скрывала своей нежной, невинной любви, и это приводило его в ужас. Она смотрела на него влюбленными глазами, и каждый ее взгляд был лаской. Снова и снова он собирался с духом, чтобы сказать ей о Джой Гастелл, и всякий раз приходил к убеждению, что он просто трус. И что хуже всего, Лабискви так очаровательна! Нельзя не любоваться ею… Каждая минута, проведенная с нею, заставляла его презирать себя — и все же как отрадны были эти минуты. Впервые перед ним раскрывалась женская душа — и так прозрачно-чиста была душа Лабискви, так поразительно наивна и невинна, что Смок видел ее до дна и читал в ней, как в раскрытой книге. Вся изначальная женская доброта была в Лабискви, с ее нетронутой душой, чуждой лжи и каких-либо условностей.
Он вспомнил Шопенгауэра [12], которого читал когда-то, и ему стало ясно, что угрюмый философ глубоко заблуждался. Узнать женщину, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — душевнобольные.
Лабискви была просто чудо, и, однако, рядом с ее лицом из плоти и крови, неизменно вставало, точно огненное видение, лицо Джой Гастелл. Джой была всегда так сдержанна, так владела собой, она подчинялась всем запретам, какие навязала женщине цивилизация, но теперь воображение Смока награждало Джой Гастелл теми же сокровищами души, что открылись ему в Лабискви. Одна лишь возвышала другую, и все женщины всего мира возвысились в глазах Смока благодаря тому, что увидел он в душе Лабискви, в краю снегов, у костра Снасса.
Немало узнал он и о самом себе. Он вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. А между тем ему так хорошо, так отрадно подле Лабискви. Что же это, если не любовь? Можно ли назвать это чувство иначе, не унизив его? Нет, это любовь. Конечно, любовь. Оказывается, он склонен к многоженству! Это открытие потрясло его до глубины души. Когда-то, живя среди сан-францисской богемы, он слышал разговоры о том, что мужчина может любить сразу двух, даже трех женщин. Тогда он этому не верил. И как мог бы он поверить, не испытав ничего подобного? Но теперь другое дело. Теперь он и впрямь любит сразу двух — и хотя его чувство к Джой Гастелл наверняка сильнее, в иные минуты он готов поклясться, что больше он любит Лабискви.
— На свете, должно быть, много женщин, — сказала она однажды. — И женщины любят мужчин. Вас, наверно, многие женщины любили. Расскажите мне о них.
Смок не ответил.
— Расскажите, — повторила она.
— Я никогда не был женат, — уклончиво ответил он.
— И у вас больше никого нет? Нет за горами другой Изольды?
Вот тут-то Смок и понял, что он трус. Он солгал. Против воли, но все же солгал. Он покачал головой, медленно, ласково улыбнулся — и сам не подозревал, сколько нежности отразилось на его лице, когда Лабискви вся просияла от счастья.
Он пытался оправдаться в собственных глазах, успокаивал себя заведомо лицемерными рассуждениями, но он и в самом деле был не настолько спартанец, чтобы безжалостно разбить сердце этой девочки.
Смущение Смока возрастало еще и из-за Снасса Ничто не ускользало от черных глаз шотландца, и каждое слово его было исполнено значения.
— Кому приятно видеть свою дочь замужем? — говорил он Смоку. — Человек с воображением во всяком случае к этому не стремится. Это тяжело. Говорю вам, даже думать об этом горько. Но что ж, такова жизнь: Маргерит тоже должна когда-нибудь выйти замуж.
Наступило молчание, и Смок в сотый раз спрашивал себя, что же таится в прошлом Снасса.
— Я человек грубый, жестокий, — продолжал Снасс. — Но закон есть закон, и я справедлив. Мало того, здесь, среди этих первобытных людей, я и закон и судья. Никто не выйдет из моей воли. Притом я отец, и живое воображение всегда было моим проклятием.
К чему велась эта речь, Смок так и не узнал, — ее прервали громкое ворчание и взрыв серебристого смеха, донесшиеся из палатки, где Лабискви играла с недавно пойманным волчонком. Лицо Снасса исказилось от боли.
— Ничего, я это переживу, — угрюмо пробормотал он. — Маргерит должна выйти замуж, и это счастье для меня и для нее, что здесь оказались вы. На Четырехглазого у меня было мало надежды. Мак-Кен был до того безнадежен, что я сплавил его индианке, которая зажигала свой костер двадцать лет подряд. Если бы не вы, пришлось бы выдать ее за индейца. Либаш мог бы стать отцом моих внуков!
В эту минуту из палатки с волчонком на руках показалась Лабискви и подошла к костру, чтобы посмотреть на того, к кому ее словно притягивало магнитом; глаза ее сияли любовью, которую ее никто не научил скрывать.
IX
— Слушайте, — сказал Мак-Кен. — Теперь весна, оттепель, снег покрывается настом. Самое время двинуться в путь, только вот в горах весной бывают снежные бури. Я их хорошо знаю. С другим я бы не рискнул бежать, но с вами решаюсь.
— Где уж вам бежать, — возразил Смок. — Вы всякому будете только обузой. Какой вы мужчина, вы размякли, как кисель. Если уж я сбегу, так сбегу один. А пожалуй, и вовсе не сбегу, меня никуда не тянет. Оленина мне по вкусу, и лето уже недалеко, будем есть лососину.
— Ваш приятель умер, — сказал Снасс. — Мои охотники не убивали его. Они нашли его мертвым, он замерз в горах, его там застигли весенние метели. Отсюда никому не уйти. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?
А Лабискви сказала:
— Я смотрю и вижу — в лице и в глазах у вас тоска. Я так хорошо знаю ваше лицо! У вас на шее маленький шрам, под самым ухом. Когда вам хорошо, уголки рта у вас поднимаются вверх. А когда у вас печальные мысли, уголки опускаются вниз. Когда вы улыбаетесь, от глаз идут лучики — три, четыре. Когда смеетесь — шесть. Иногда бывает даже семь, я считала. А теперь нет ни одного. Я не читала книг. Я не умею читать. Но Четырехглазый меня многому научил. Я правильно говорю по-английски. Это он меня научил. Я видела и у него тоску в глазах, точно голод, — тоску по большому миру. Он часто тосковал по тому миру. А ведь у нас он ел вдоволь мяса, и рыбы тогда было много, и ягод, и кореньев, и даже мука была, — нам ее часто приносят Дикобразы и Лусква в обмен на меха. А все-таки ему не хватало того, большого мира. Разве тот мир так хорош, что и вам его недостает? У Четырехглазого ничего не было. А у вас — я. — Она со вздохом покачала головой. — Четырехглазый и умирая тосковал. Может быть, если вы останетесь здесь навсегда, вас тоже убьет тоска по тому миру? Боюсь, что я совсем не знаю, какой он, тот мир. Хотите убежать туда?