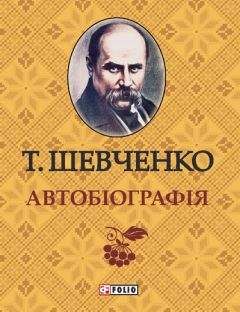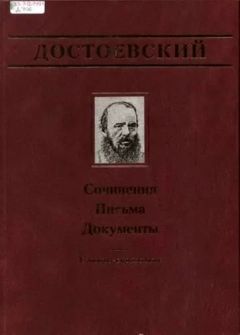Тарас Шевченко - Автобиография. Дневник. Избранные письма и деловые бумаги
Вашего Превосходительства покорнейший слуга
Т. Шевченко
Крепость Орская,
1847,
июля, 16.
30. А. И. Лизогубу{556}
— 22 октября*{557}
Крепость Орская, 22 октября 1847.
Благодетель и друг.
На другой день после того, как я от вас уехал, меня арестовали в Киеве, на десятый — посадили в каземат в Петербурге, а через три месяца я очутился в Орской крепости в солдатской серой шинели, — не чудо ли, скажете! Тем не менее, оно так. И я теперь вылитый солдат, которого нарисовал Кузьма Трохимович{558} пану, увлекавшемуся огородами. Вот вам и кобзарь! Захватил денежки{559}, да и айда за Урал к киргизам веселиться. Веселюсь — чтобы никому не довелось так веселиться, да что делать! Надо клониться, куда клонит судьба. Еще слава богу, что мне удалося укрепить сердце так… что муштруюсь себе и все. Жаль, что я не оставил тогда у вас рисунок киевского сада, ведь он и все, бывшие при мне, пропали у И. И. Фундуклея. А теперь мне строжайше запрещено рисовать и писать (кроме писем), тоска да и только; читать — хоть бы смеха ради — одна буква, и той нет. Брожу над Уралом и… нет, не плачу, а нечто худшее творится со мной. Отошлите, будьте добры, мое письмо и адрес мой княжне Варваре Николаевне, а адрес вот какой: в город Оренбург, в Пограничную комиссию, его благородию Федору Матвеевичу Лазаревскому, с передачей. А этот добрый земляк уже будет знать, где меня найти. Будьте здоровы, низко кланяюсь Илье Ивановичу{560} и всему дому вашему, не забывайте бесталанного Т. Шевченка. Поклонитесь, как увидите, от меня Кейкуатовым{561}.
31. В. Н. Репниной
— 24 октября{562}
Крепость Орская, 24 окт[ября] 1847.
По ходатайству вашему, добрая моя Варвара Николаевна, я был определен в Киевский университет, и в тот самый день, когда пришло определение, меня арестовали и отвезли в Петербург 22 апреля{563} (день для меня чрезвычайно памятный), а 30 мая мне прочитали конфирмацию, и я был уже не учитель Киевского университета, а рядовой солдат Оренбургского линейного гарнизона!
О, как неверны наши блага,
Как мы подвержены судьбе.{564}
И теперь прозябаю в киргизской степи, в бедной Орской крепости. Вы непременно рассмеялись бы, если б увидели теперь меня. Вообразите себе самого неуклюжего гарнизонного солдата, растрепанного, небритого, с чудовищными усами, — и это буду я. Смешно, а слезы катятся. Что делать, так угодно богу. Видно, я мало терпел в моей жизни. И правда, что прежние мои страдания, в сравнении с настоящими, были детские слезы: горько, невыносимо горько! и при всем этом горе мне строжайше запрещено рисовать что бы ни было и писать (кроме писем), а здесь так много нового, киргизы так живописны, так оригинальны и наивны, сами просятся под карандаш, и я одуреваю, когда смотрю на них. Местоположение здесь грустное, однообразное, тощая речка Урал и Орь, обнаженные серые горы и бесконечная киргизская степь. Иногда степь оживляется бухарскими на верблюдах караванами, как волны моря зыблющими вдали, и жизнью своею удвоивают тоску. Я иногда выхожу за крепость, к караван-сараю или меновому двору, где обыкновенно бухарцы разбивают свои разноцветные шатры. Какой стройный народ, какие прекрасные головы! (чистое кавказское племя) и постоянная важность, без малейшей гордости. Если бы мне можно рисовать, сколько бы я вам прислал новых и оригинальных рисунков. Но что делать! А смотреть и не рисовать — это такая мука, которую поймет один только истинный художник. И я все-таки почитаю себя счастливым{565}в сравнении с Кулишем и Костомаровым: у первого жена прекрасная, молодая, а у второго бедная, добрая старуха мать, а их постигла та же участь, что и меня, и я не знаю, за какое преступление они так страшно поплатились. Вот уже более полугода я не имею никакого понятия о нашей бедной новой литературе, и я просил бы вас, добрая Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя «Письма к друзьям»{566}, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело, и, если можно, «Чтение Московского археологического общества», издаваемое Бодянским{567}. Я мог бы выписать все это сам, но… пришлите, добрая Варвара Николаевна, это будет вернее, и бог вам заплатит за доброе дело. Адрес мой сообщит вам Андрей Иванович{568}. Моя сердечная благодарность княгине Варваре Алексеевне{569} и всему дому вашему моя любовь и уважение, прощайте, желаю вам всех благ и иногда вспоминать бесталанного
Т. Шевченка.
32. А. И. Лизогубу
— 11 декабря*{570}
Крепость Орская, 1847, декабря, 11.
Великим веселием возвеселили вы меня{571} своим добрым, христианским письмом в этой басурманской пустыне. Спасибо вам, друже мой добрый, я с самой весны не слышал родного, искреннего слова. Я писал туда кое-кому. А вам первому бог велел развлечь мою тяжкую тоску в пустыне искренними словами. Спасибо вам. Не знаю, дошло ли мое письмо до ваших рук (я ведь послал в Седнев 24 октября, не зная, что вас бог занес в самую Одессу). Жаль и очень мне вашей маленькой{572}, вспомню, да так, будто вижу, как она — малюсенькая — танцует, а Илья Иванович играет и подпевает… Не скорбите, может, она и хорошо сделала, что перешла на тот свет, не мученная страстями земными. Были вы в Яготине летом, что там делается? Где теперь живут яготинские анахоретки? Я писал через вас Варваре Николаевне, не знаю — дошло ли. Что она, сердечная, поделывает. Скажите ей, как увидите, или напишите, пусть мне напишет хоть одну строчечку, ее прекрасная, добрая душа меня частенько навещает в неволе. Чтоб и врагу моему лютому не довелося так терзаться, как я теперь терзаюсь. И вдобавок надо было еще и захворать, осенью мучил меня ревматизм, а теперь цынга, у меня ее отродясь не было, а теперь такая напала, что даже страшно. Холера, благодарение богу, обошла нашу пустыню, а ходила близко. Сажин мне ничего не пишет{573}, не знаю, куда он дел мой портфель с рисунками мелкими, там целая охапка их была. Увидите его, спросите, да и возьмите к себе, а ящик с масляными красками пусть себе оставит. Вы спрашиваете, брошу ли я рисование. Рад бы бросить, да нельзя. Я страшно мучусь, потому что мне запрещено писать и рисовать. А ночи, ночи — господи, какие страшные и долгие! — да еще и в казармах. Добрый мой друже! Голубе сизый! Пришлите ящичек ваш{574}, где есть все, что надо, альбом чистый и хоть одну кисть Шариона. Хоть иногда взгляну, и все-таки легче станет. Просил я Варвару Николаевну, чтобы мне книжки некоторые прислала, а теперь и вас прошу, ведь кроме библии нет ни буквы. Ежели найдете в Одессе Шекспира{575}, перевод Кетчера, или «Одиссею», перевод Жуковского, пришлите ради распятого за нас, ведь, ей-богу, от тоски с ума сойду. Послал бы вам денег на все сие, да нет их, — до единого гроша пропали. А, может, бог пошлет, и я вас когда-нибудь отблагодарю. Будете посылать, — шлите на мое имя. И бога ради, напишите что-нибудь о Варваре Николаевне и о Глафире Ивановне{576}да поклонитесь от меня Илье Ивановичу, Надежде Дмитриевне{577} и всему дому вашему. Будьте здоровы, не забывайте искреннего своего и бесталанного
Т. Шевченка. Адрес: в Оренбургскую губернию, в крепость Орскую.
33. М. М. Лазаревскому{578}— 20 декабря*{579}
20 декабря 1847, крепость Орская.
С Новым годом, будьте здоровы, дорогой и искренний мой земляче, где вас бог носит, уже вы в Питере или и до сих пор в Одессе? Пусть где хочет носит, да только пути удачей устилает, и не любит вас, ибо сказано, кого любит, того и мучит. Тяжело, брате мой добрый, мучиться и самому не знать за что. Вот так со мною случилось, сперва я смело посмотрел беде в глаза. И думал, что это была сила воли, ан — нет, то была гордость слепая. Я не разглядел дна бездны, в которую упал. А теперь, как разглядел, то душа моя бедная рассыпалась, как прах перед лицом ветра. Не по-христиански, брате мой, а что ж поделать? Кроме того, что не с кем искренним словом перекинуться, кроме тоски, впившейся в сердце как лютая змея, кроме всех бед, терзающих душу, бог покарал меня еще и телесным недугом: заболел я сперва ревматизмом, тяжелый недуг, да я все-таки понемногу боролся с ним, и врач, спасибо ему, малость помогал, и то, что я прозябал хотя и в отвратительном, но все же вольном жилище{580}, так, видите, чтоб я не нарисовал (мне ведь рисовать запрещено) своего недуга (углем в трубе), то и сочли за благо перевести меня в казармы. К трубкам, вони и крику стал я понемногу привыкать, а тут привязалась ко мне цынга лютая, и я теперь как Иов на гноище, только меня никто не навещает. Так мне теперь тяжело, так тяжело, что если бы не надежда хотя когда-нибудь увидеть свою бесталанную родину, то молил бы господа о смерти.