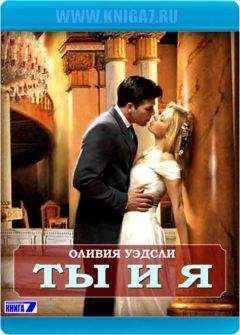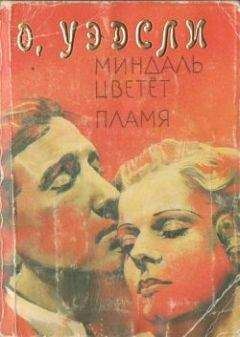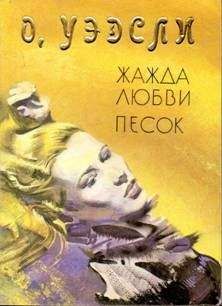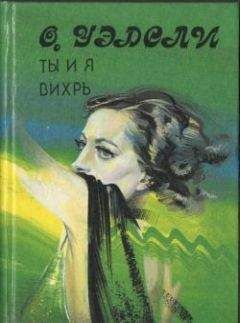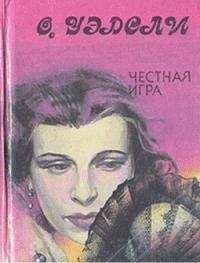Оливия Уэдсли - Жажда любви
А он так легко поверил, что она смеялась над ним и обманывала его с Кэртоном, поверил сразу в самое плохое, в то время как она отдавала ему самое ценное, что у нее было.
Он никого больше не обвинял; негодование против отца и Колена улеглось по дороге в Тунис; человеконенавистничество первого и себялюбивая трусость второго были ничто по сравнению с его собственной виной.
Они употребляли низкие средства для достижения низких целей, — он проявил низость по отношению к святыне, он осквернил храм, — он, а не они.
Упорная и жестокая ненависть его отца к Саре казалось ему немногим хуже его оскорбительной ревности, а последнее свидание с Сарой стало источником ужасных угрызений совести, в сущности, было им с самого начала, хотя он и не признавался себе в этом, пока не узнал всей правды.
Что скажет он Саре в свое оправдание? Что он оскорбил ее и надругался над ее любовью, потому что был уверен, что она изменяла ему с Кэртоном?
Не надеясь на прощение, он все-таки сел на пароход с твердым намерением повидаться с ней и исполнить свой долг.
А потом… Ему вспомнились первые дни их любви, их первая встреча… и последнее свидание…
Что могло быть ужаснее этой пытки?
Он мысленно перебирал все мелкие подробности этого рокового вечера, сгорая от стыда. С каким тревожным и вместе с тем нежным выражением лица переступила она порог его комнаты, и как мгновенно это выражение сменилось холодным и враждебным, когда она увидела, куда попала.
Он содрогался, последовательно вспоминая и свои поцелуи, и ее отпор, сначала жалобный, а потом непреклонный, и тот жест, с которым она вырвалась из его объятий.
Из его объятий, которые должны были быть для нее опорой…
Женщины этого не забывают!
Он посмотрел на темную воду: таким, как он, только и остается…
Многие мужчины изменяют женщинам, но едва ли есть один мужчина, который проявил бы при этом столько подлости… после всего того, что было!
Его единственное оправдание — в неведении: отец воспользовался его полубессознательным состоянием и направил его ум в желаемом направлении.
Процесс был кончен, когда он услышал о нем впервые, и даже тогда он плохо разобрался в нем, потому что знойное солнце Африки расслабляло его больные мозги, и вся его энергия уходила только на то, чтобы заставить себя работать.
Первые недели пребывания в Тунисе были напряженной работой или тяжелым сном; он ни о чем не думал…
Потом на него нахлынули воспоминания о прошлом, и он стал бороться с ними. Ему смутно вспоминалось какое-то объяснение с отцом по поводу смерти Кэртона, свое упорство сначала, а потом безвольное принятие версии, выставленной последним: Кэртон толкнул его, Жюльена, он упал и разбил себе голову.
Еще позднее до него дошли слухи о процессе и все подробности следствия, и он почувствовал, что осквернено святая святых его души и что вся его жизнь разбита.
Теперь, часами не спуская глаз с темных морских вод, которые пароход бороздил белой пеной, он изумлялся своему ослеплению и легковерию.
Беспросветное, холодное отчаяние, которое порождают в нас запоздалые угрызения совести, все глубже и глубже проникали в его душу.
Как она любила его! В тумане воспоминаний встал образ Сары и первое время их любви. Все кончено: он только тень самого себя!
Самое ужасное одиночество — это одиночество человека, который любит и лишен права на эту любовь.
ГЛАВА XXXI
Переход от жизни к смерти
Безболезненен и тих,
Ни стенаний, ни рыданий
Он не вызовет моих.
Страшно жить… ужасны страсти
Человеческой толпы,
Мое сердце коченеет
Под напором их волны.
Жюльен прибыл в Париж около полудня; он ни на что не смотрел, ничем не интересовался.
Очутившись у себя на квартире, он машинально отметил, что все вещи стоят на старых местах, — и это было все.
— Я еду к ней, — хладнокровно заявил он отцу. — От нее, и только от нее, будет зависеть мое дальнейшее поведение и тот способ, каким будет восстановлена истина.
На этом они расстались. Гиз из окна проводил глазами удаляющуюся фигуру сына. Потом снова опустился в кресло и протер очки.
Ну, что же, если все обнаружится, эта нахальная выскочка Колен тоже полетит… все-таки это было некоторым утешением…
Но Сара не допустит этого! Впрочем, даже если и так, общественное мнение оценит его поведение так же, как он оценивал его сам… самоотверженная отцовская любовь, которая ни перед чем не останавливается…
Ни перед чем…
Самодовольный эгоизм Гиза был неуязвим как для чувства любви, так и для голоса здравого рассудка, и, как щит, оборонял его душевное равновесие.
Угрызения совести и раскаяние были одинаково чужды его натуре; он давно утратил способность жертвовать собою, и если и сожалел об утрате этой способности, то только потому, что ничего не дающий ничего и не получает.
За последнее время ненависть к Саре и стремление причинить ей возможно больший вред окончательно подавили в нем даже слабые проблески более гуманных переживаний.
Он не замечал своих собственных потерь, забывал о своем одиночестве, наслаждаясь победой. Он утратил Жюльена — Сара тоже утратила его. Его жизнь разбита, но и виновный понес достойную кару.
И он не уставал подсчитывать свои трофеи, не чувствуя собственных ран при мысли о тех, которые он нанес своему врагу.
Он считал себя невинной жертвой, принесенной на алтарь отцовской любви. Сколько правды в изречениях о неблагодарности и эгоизме детей! Гиз положительно считал себя мучеником.
Пусть будет что будет! Он, конечно, не в силах воспрепятствовать их идиотским решениям, но его роль — самая благородная, и, что бы ни случилось, его совесть совершенно спокойна.
Отец, беззаветно преданный неблагодарному сыну…
ГЛАВА XXXII
Ночи тени окутали землю,
Не воркуют четы голубей,
Неподвижны морские глубины,
Это час, когда любишь сильней.
Это час упоительной страсти,
Твои губы прижались к моим,
Ты трепещешь, сияя красой,
Эту ночь мы ни с чем не сравним.
Клаверинг, родовое поместье Сары, показался ей тихим приютом, к которому так стремилась ее душа.
Она увидела его, после семилетнего отсутствия, под вечер, когда мягкие длинные тени ложились на траву, навевая дремоту на старый дом с его остроконечной крышей, высокими, узкими трубами и старинными башенными часами.
Над главным входом, массивная, обитая гвоздями дверь которого запиралась на ночь тяжелым железным болтом, висел герб Тенисонов с полустертым дождями и ветром девизом: «Я держу и удерживаю».
Сара грустно улыбнулась, вглядываясь в эти каменные знаки. Она никогда не умела «удерживать»; и теперь окончательно перешла в армию женщин, которые, вследствие отсутствия настойчивости или привлекательности, не смогли сохранить то, что им принадлежало. В армию отверженных и обездоленных…
Она спустилась в сад; он был очень запущен, так как леди Диана не любила «сорить» деньгами, но именно эта запущенность делала его особенно привлекательным.
Питомник роз был залит лучами заходящего солнца, и красные, белые и чайные розы качали своими головками под дуновением легкого вечернего ветерка.
От питомника начинался так называемый «лабиринт», где буксусы переплетали свои ветви в непроходимую чащу и откуда исходил острый, влажный и знойный аромат. Старый парк обступал со всех сторон и питомник и лабиринт и пробивался даже в фруктовый сад, отделенный от него полуразвалившейся стеной, желтые плиты которой исчезали под ветвями разросшегося жасмина и малины.
Под аркой из роз виднелась круглая каменная скамейка. Сара присела на нее.
Какая невозмутимая тишина! Какой глубокий покой! Это было как раз то, чего жаждала ее измученная душа; здесь можно было отдохнуть от мирской суеты.
Сара смутно надеялась, что Клаверинг восстановит ее душевное равновесие, и теперь, наслаждаясь мирным покоем, веющим от всей этой старины, она чувствовала, что ее надежды оправдываются: смятение, царившее в ее душе, понемногу улеглось.
Но ничто не властно окончательно усыпить смятение женщины, которая любит и страдает, ничто, кроме любви, и, пока тихий вечер незаметно сменялся ночью, в ее сердце незаметно, но настойчиво проникала прежняя тоска.
Она поднялась в свою прежнюю детскую и еще долго после того, как Гак убрала ее волосы и приготовила ей постель, просидела в глубокой оконной нише, любуясь садом, залитым таинственными лучами месяца.
Как часто в прежние времена и здесь, и в Латрезе она обретала душевный покой, приобщаясь к мирному покою спящей природы!
Она искала этого покоя и теперь, прислушиваясь к шелесту деревьев, этому любовному разговору листьев, и к шуршанью сонных трав, колеблемых ветром, но на этот раз очарование благоухающей ночи только усиливало ее смятение; ночь иногда ранит так же больно, как и беспощадное жгучее солнце.