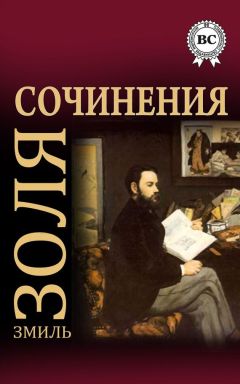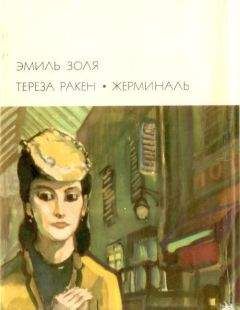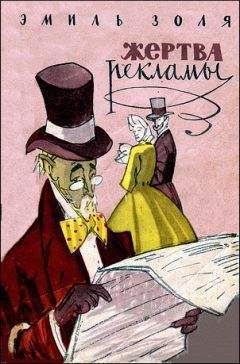Эмиль Золя - Сочинения
— Да, откровенно говоря, я не предполагал, что ты можешь писать такие вещи! Где же ты набрался таланта? Ведь обычно раз уж таланта нет — так его ниоткуда и не возьмешь.
И он стал рассматривать Лорана, голос которого сделался теперь мягче, а каждый жест приобрел какое-то особое изящество. Он не мог догадаться о страшном потрясении, которое преобразило этого человека, развив в нем чувствительные, как у женщины, нервы, чуткость и впечатлительность. В организме этого убийцы, несомненно, произошли какие-то странные перемены. Трудно проникнуть в такие глубины и проанализировать происходящие там процессы. Быть может, Лоран стал художником так же, как стал трусом, — в результате великого кризиса, который потряс и тело его и рассудок. Прежде он изнемогал от своего дурманящего полнокровия, он был ослеплен своим здоровьем, словно пеленой, окутавшей его со всех сторон, теперь он похудел, волновался, характер у него стал беспокойный, ощущения приобрели остроту и силу, характерные для нервных людей. Под влиянием постоянного чувства ужаса его мысль выходила из обычной колеи и возвышалась до экстаза, свойственного гениям; своего рода нравственное заболевание, невроз, терзавший все его существо, развили в нем безошибочное художественное чутье; с тех пор как он убил, его тело стало как бы легче, потрясенный ум как бы вышел за нормальные пределы, и в результате резкого расширения умственного горизонта в сознании Лорана проходили обворожительные образы, истинно поэтические мечты. Потому-то и движения его вдруг приобрели особое изящество, потому-то и живопись его была прекрасна, неожиданно сделавшись ярко индивидуальной и живой.
Приятель не стал доискиваться причин появления на свет этого таланта. Так в недоумении он и ушел. Перед уходом он еще раз рассмотрел холсты и сказал:
— Одно только могу сделать замечание: у всех твоих этюдов есть что-то общее. Все пять голов похожи одна на другую. Даже в женских лицах есть у тебя что-то резкое; это словно переодетые мужчины… Понимаешь, если ты хочешь из этих эскизов сделать картину, надо некоторые лица заменить другими. Нельзя же, чтобы все изображенные на картине были родственниками, — тебя поднимут на смех.
Он вышел из мастерской и с площадки крикнул смеясь:
— Право же, старина, очень рад, что повидал тебя. Теперь уверую в чудеса… Боже мой! До чего же ты стал обворожителен!
Он ушел. Лоран вернулся в мастерскую в большом смущении. Когда его приятель сказал, что у всех написанных им голов есть что-то родственное, Лоран резко отвернулся, чтобы гость не увидел, как он побледнел. Дело в том, что роковое сходство, подмеченное художником, поражало и самого Лорана. Он поспешил к полотнам; по мере того как он рассматривал их, переходя от одного к другому, на спине у него выступал холодный пот.
— Он прав, все они похожи один на другой, — прошептал он. — Они похожи на Камилла.
Он отступил назад, сел на диван и по-прежнему не в силах был оторвать глаз от этюдов. Первый из них изображал старика с длинной седой бородой; под бородой Лоран чувствовал тощий подбородок Камилла. На втором была представлена белокурая девушка, и она смотрела на него голубыми глазами — глазами его жертвы. В трех остальных лицах тоже имелись черты, напоминавшие утопленника. Это был как бы Камилл, загримированный стариком, девушкой, Камилл в наряде, каким художнику вздумалось наделить его; но в любом случае в портрете оставался неизменным основной характер лица. Было в этих лицах и другое, страшное сходство: все они выражали страдание и ужас, от всех веяло какой-то жутью. На каждом из них у рта, слева, лежала складка, благодаря которой губы кривились и на лице появлялась гримаса. Эта складка, замеченная Лораном на искаженном лице утопленника, придавала всем портретам какое-то отталкивающее родство.
Лоран понял, что он чересчур долго рассматривал Камилла в морге. Вид трупа глубоко запечатлелся в его памяти. А теперь рука, помимо его воли, наносит на холст жуткие черты, которые преследуют его повсюду.
Художник откинулся на диван, и ему понемногу стало казаться, что портреты оживают. Перед ним было пять Камиллов, пять Камиллов, убедительно воссозданных его собственной рукой и, в силу некоего страшного чуда, явившихся в обличий разных возрастов и полов. Он встал, разорвал холсты в клочья и выбросил их вон. Он понял, что умрет от ужаса, если сам населит мастерскую портретами своей жертвы.
Его охватил страх: он боялся, что теперь уже не сможет написать портрета, который не был бы похож на утопленника. Ему захотелось сразу же проверить, послушна ли ему рука. Он поставил на мольберт чистый холст, потом углем набросал основные черты лица. Лицо напоминало Камилла. Лоран порывисто стер эскиз и наметил другой. Целый час бился он, стараясь побороть роковую силу, которая водила его рукой, но при каждой новой попытке снова возникал облик утопленника. Как ни напрягал он волю, как ни старался избежать хорошо ему знакомых линий — он выводил именно эти линии, он не мог выйти из-под власти своих мускулов, своих бунтующих нервов. Сначала он делал наброски наскоро, потом стал стараться водить углем медленнее. Результат получался все тот же: на холсте беспрестанно появлялось искаженное, страдальческое лицо Камилла. Художник набрасывал одно за другим самые различные лица — лики ангелов, лики девственниц, окруженные сиянием, головы римских воинов в касках, белокурые, румяные детские головки, лица старых разбойников, исполосованные рубцами, — и снова, снова возрождался утопленник; он был то ангелом, то девушкой, то воином, то ребенком, то разбойником. Тогда Лоран перешел на карикатуры; он преувеличивал отдельные черты, рисовал чудовищные профили, придумывал какие-то невероятные головы; но от этого портреты его жертвы, поражавшие изумительным сходством, становились только страшнее. Наконец он стал рисовать животных — собак, кошек. Собаки и кошки чем-то напоминали Камилла. В Лоране закипел глухой гнев. С отчаянием вспомнил он о задуманной большой картине и тут же проткнул холст кулаком. Теперь о ней нечего было и думать; он ясно чувствовал, что отныне обречен рисовать только Камилла; да, он обречен, как и сказал ему приятель, писать головы, которые будут похожи одна на другую и будут только смешить людей. Он представил себе, какая бы у него получилась картина; туловища всех персонажей, и мужчин и женщин, венчало бы белесое, испуганное лицо, утопленника. Возникшее в его воображении странное зрелище было чудовищно нелепо, и он совсем впал в отчаяние.
Итак, отныне он уже не решится взяться за кисти, он будет опасаться, что первым же мазком воскресит свою жертву. Если он хочет проводить в мастерской время мирно, он не должен заниматься тут живописью. При мысли, что пальцы его наделены роковой, подсознательной способностью без конца изображать Камилла, он с ужасом стал рассматривать свою руку. Она как будто уже не принадлежала ему.
XXVI
Беда, нависшая над г-жой Ракен, внезапно разразилась. Паралич, который уже несколько месяцев бродил по телу старухи и готов был вот-вот завладеть ею, вдруг схватил ее за горло и связал по рукам и ногам. Однажды вечером г-жа Ракен, тихо беседуя с Терезой и Лораном, вдруг широко раскрыла рот и замерла, не докончив фразы; ей показалось, будто ее кто-то душит. Она хотела было закричать, позвать на помощь, но из ее груди вырвались лишь невнятные хриплые звуки. Язык ее окаменел. Руки и ноги отнялись. Она лишилась дара речи и была недвижима.
Тереза и Лоран вскочили, ошеломленные молниеносным ударом, который сразил старую торговку. Когда она замерла и обратила на них умоляющий взгляд, они стали расспрашивать, что с нею такое. Ответить она не могла; она смотрела на них с выражением глубокой тревоги и тоски. Им стало ясно, что перед ними — труп, труп полуживой, который видит и слышит их, но не в силах ничего сказать. Это несчастье повергло их в отчаяние: в сущности, их мало трогали страдания параличной, они сокрушались о самих себе, о том, что теперь им придется жить вдвоем, постоянно видеть только друг друга.
С этого дня жизнь супругов стала совсем невыносимой. Они проводили ужасные вечера возле параличной старухи, которая теперь уже не убаюкивала их тревогу своей ласковой болтовней. Она лежала в кресле, как тюк, как вещь, а они сидели вдвоем у стола, встревоженные и растерянные. Этот труп уже не служил им средостением; временами они забывали о нем, принимали его за один из предметов обстановки. Тогда ими овладевали обычные ночные страхи, столовая становилась не менее жутким местом, чем спальня, и призрак Камилла вставал перед ними. Следовательно, им приходилось страдать лишних четыре-пять часов в сутки. Едва начинало смеркаться, на них нападал трепет; они опускали на лампе абажур, чтобы не видеть друг друга, и старались уверить себя, что г-жа Ракен вот-вот заговорит и напомнит о своем присутствии. Они ухаживали за ней и не пытались от нее отделаться потому, что глаза ее еще были живы, и супругам доставляло облегчение наблюдать, как они движутся и блестят.