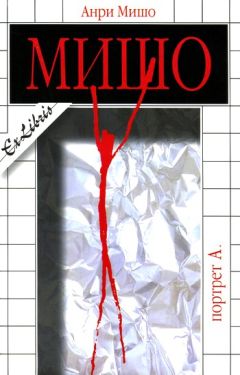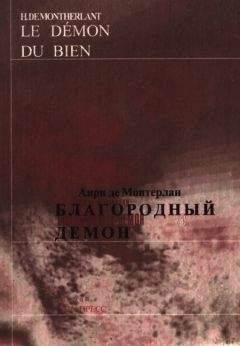Анри Мишо - Портрет А
Поэт всегда любит впервые, ему даровано чудо увидеть дерево в первый раз.
Восхищенный поэт путает свою жизнь с жизнью дерева и теряется в пространствах.
Будущее поэзии{132}
(пер. О. Кустовой)
С начала этого конгресса здесь прозвучало множество советов писателям: им бы стоило обратить свой взгляд к социальным проблемам, подумать о последствиях произнесенного ими слова, осознать свою ответственность, не говоря уже о прочих призывах, которые обычно слышишь на проповеди.
Однако такой взгляд на человека и художника в нем, как на единое целое, где художник и человек отвечают друг за друга или художник подчиняется человеку, — такой взгляд уместен, если речь идет о журналисте или эссеисте, к писателю он уже не очень применим и уж совсем не годится для поэта.
Поэт не обязан быть безупречным человеком и готовить по своему вкусу совершенные кулинарные чудеса для всего человеческого рода.
Поэт не раздумывает над тем, как приготовить эти яства, внимательно и строго следя за процессом, чтобы затем предложить их для всеобщего блага.
Поэт не пускается в подобные предприятия, да и пожелай он этого, результаты будут ничтожными. Хорошая поэзия не часто занимается благотворительностью, да и на политических собраниях она редкая гостья. Если человек стал пылким коммунистом, то из этого не следует, что обращение затронет поэта, самую его поэтическую сущность. Пример: Поль Элюар — ярый марксист, но стихи его, насколько вам известно, сотканы из снов и на редкость изощренны. Аналогичный пример: поэт фашист, чьи пламенные, неистовые речи посвящены почти исключительно величию его страны{133} и чьи стихи, однако, рождаясь в классической и безмятежной духовной атмосфере, остаются прекрасными и не затронутыми политикой. Третий пример: Луи Арагон, когда-то разочарованный буржуа и большой поэт, стал активным коммунистом, как никто преданным делу партии, и посредственным поэтом, чьи боевые стихи потеряли всякое поэтическое достоинство.
Впрочем, все эти примеры не столь важны, названным поэтам нетрудно противопоставить других, о чьей талантливости можно, вероятно, поспорить. Само явление, о котором я говорю, уже давно всех поражает, и в первую очередь самих поэтов.
Нет, поэт не может сделать достоянием поэзии то, что захочет. Ни воля, ни желание тут вообще ни при чем. Поэт не хозяин самому себе.
Точно так же едва ли в наших силах сделать явь сном, а день — ночью.
Недостаточно насмотреться на лошадей днем, чтобы они наверняка приснились тебе ночью, недостаточно упрямо захотеть увидеть их во сне, чтобы так и случилось. Нет проверенного средства, чтобы вызвать появление во сне кого бы то ни было. Здесь мало захотеть или знать, как это можно сделать.
В точности так же обстоит дело с поэтическим вдохновением.
Та политическая или социальная проблема, которая волнует и интересует человека в его обыденном существовании, загадочным образом, если можно так выразиться, теряет, оказавшись в зоне поэтического, весь свой накал, всю свою жизнеспособность, чувственное наполнение, всякое человеческое значение. Эта проблема не для этой зоны, жизненные соки перестают питать ее, или, правильнее, эти глубины — не для нее.
В поэзии важнее почувствовать, как дрожит капля воды, падающая на землю, и рассказать об этом, чем выработать наилучшую программу социальной взаимопомощи.
Эта капля воды окажет на читателя большее духовное воздействие, чем наиблагороднейшие призывы к высоким сердечным порывам, и сделает его человечнее, чем все человеколюбивые строфы.
Это и есть ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.
Поэт показывает свой гуманизм лишь одному ему ведомым способом, который зачастую и негуманен (негуманность его внешняя и преходящая). Но даже будучи антисоциальным, асоциальным, поэт может быть социальным.
Чтобы не вступать в споры о поэтах, имена которых у всех на слуху, я предпочту привести в пример художника, работающего в жанре далеко не столь чистом, как Поэзия, художника, вызывающего единодушную симпатию, — Чарли Чаплина. Он создал образ бродяги Шарло, человека явно аморального. Шарло ставит подножки полицейским, если они встречаются у него на пути, награждает их тумаками, он издевается над любой властью, не работает, а если и начинает, то у него все валится из рук, он надувает хозяина, не испытывает никакого уважения к чужим женам, он даже может украсть при случае, он — социальное ничтожество, и вместе с тем, по воздействию этого образа, по тому, скольких людей этот Шарло смог примирить с жизнью, его можно назвать одним из благодетелей нашего времени.
Ни в своем творчестве, ни в жизни Бодлер, Лотреамон, Рембо не предстают персонажами, которых педагог мог бы поставить в пример, почему же для нас их имена значат столь много и сами они в каком-то смысле являются нашими благодетелями?
Конечно уж не из-за их взглядов на мораль, а из-за того, что они выразили новое сознание, новые жизненные устремления.
Поэтому не с проповедниками добра и зла нужно их сравнивать, а с тем первым человеком, который изобрел огонь. Было это добром или злом? Не знаю. Это стало новой точкой отсчета для человечества. Череда новых точек отсчета создает цивилизацию. К этому-то и стремится поэт, к новому пути, к победе над инерцией — своей собственной, инерцией времени, над вечным оцепенением реакционеров.
Поэзия не столько разновидность обучения или даже колдовства, обольщения, сколько одна из заклинательных форм мышления. Благодаря своей компенсаторной функции поэзия вырывает человека из удушливой атмосферы, позволяя ему свободно вздохнуть. Измученной душе поэзия возвращает мир. Поэтому поэзия социальна, но механизм ее социальности сложнее, чем это представляют себе, и не столь очевиден.
Кажется, ненароком я ответил на вопрос: «Куда идет поэзия?» Цель — делать необитаемое обитаемым и душное воздушным.
Если говорить о грядущей поэзии конкретнее, то это поиски секрета поэтического состояния, самой поэтической субстанции.
Уходя от классического стиха, от строфы, от концевой рифмы и рифмы внутренней, даже от ритма, отказываясь от всего, она ищет зону поэтического внутри человека, ищет ту область, которая некогда, возможно, была областью легенд и частью территории религии. (Только частью. Мой друг, поэт Жюль Сюпервьель, только что высказал аналогичную мысль.)
Возросшая уверенность, проистекающая от уверенности, которую вселяет наука в общем, и, в частности, из-за прогресса в психопатологии, психоанализе, этнографии, возможно, даже в парапсихологии и неооккультизме, все более и более обстоятельные знания о связи мозга и разума, мозга и желез секреции, мозга и крови, разума и нервов, все более и более совершенное и подтвержденное опытами изучение речевых расстройств, синестезии, образов, подсознания и сознания может подтолкнуть любопытство поэта к желанию потрогать все это изнутри, привить вкус ко все более и более рискованным вторжениям в области вторичных состояний, опасных для него самого.
С другой стороны, изменения в частной и общественной жизни, которые становятся все более и более быстрыми из-за развития техники и вторжения науки в самое что ни на есть человеческое, могут заставить поэта параллельно с этим создать новое видение.
Таково, на мой взгляд, ближайшее будущее Поэзии.
Но какой-нибудь поэт (и он уже, возможно, родился) перевернет, конечно, эту новую поэзию. И это будет прекрасно.
Потому что настоящая Поэзия противостоит Поэзии, противостоит Поэзии предыдущего времени, не из ненависти, конечно, хотя она временами и принимает наивно такую форму, но потому, что она призвана служить двойной цели, состоящей, во-первых, в том, чтобы нести огонь, новые жизненные устремления, новое осмысление времени, а во-вторых, вырвать человека из привычной, скучной, ставшей удушливой атмосферы.
Роль поэта и заключается в том, чтобы первым почувствовать эту атмосферу, найти то окно, что надо распахнуть, а точнее — вскрыть абсцесс в подсознательном.
Возможно, поэтому и говорится: «Поэт — это великий целитель», таков, впрочем, и комик. Поэтому-то и проявляет себя вторая тенденция в поэзии, которую я назвал заклинательной. Поэт изгоняет морок предыдущего времени, его литературы, и, частично, морок времени настоящего.
Обе эти тенденции, впрочем, сплетаются в единый порыв к будущему.
В начале пути поэт одинок, он один отправляется исследовать новое. Его подлинная социальная миссия заявит о себе позже, когда человечество, даже против своей воли, примет поэта в свое лоно.
Происходит это столь естественно, что иногда задним числом, и по простодушию, начинают думать, будто он-то и задал тон предшествующей эпохе.