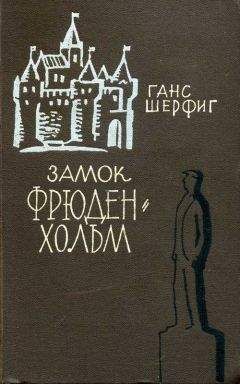Ганс Шерфиг - Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион
Жилища для людей не строились, зима ведь выдалась мягкая. Однако спать на лестницах, в подъездах, в убежищах и на уличных скамьях было холодно, а несколько тысяч человек в столице не имели крыши над головой.
— Здесь нельзя! — сказал полицейский одному мужчине, который собрался было провести ночь на скамейке в парке. — Здесь спать не полагается! Идите отсюда!
Не разрешалось ночевать и в подъездах домов на лестницах, подложив под голову коврик от чужих дверей. Запрещалось залезать в грузовики на стоянках машин или прокрадываться в пустые железнодорожные вагоны. Полиция немало потрудилась, выгоняя людей, которые хотели отдыхать в запрещенных местах. И как горько эти люди плакали, когда их будили и прогоняли. Может быть, им казалось, что человек имеет право где-то находиться. Но им этого не разрешали: «Тут нельзя! Отправляйтесь в другое место!» — говорила им полиция. И многие действительно навеки покидали ту землю, на которой не имели права жить. Статистика утверждала, что в столице на один день приходится два с половиной самоубийства. И далеко не в худшем положении были те, кто сидел в теплой тюремной камере.
В течение целого года ежедневно расходовалось три миллиона крон на военные нужды маленькой страны, и почти все считали, что это ни с чем не сообразно, вредно и даже опасно для жизни.
Земледельцам не нравилось, что их поля цементируются. Городские жители были далеко не в восторге от того, что в парках и на площадях строятся дзоты и убежища. Архитекторы были недовольны тем, что не имеют возможности строить для людей жилища. Врачи сетовали на то, что не хватает больниц. Учителя жаловались, что старые школы не вмещают всех детей. Студенты устраивали на улицах демонстрации, потому что в университете не хватало мест для всех желающих. Ученые протестовали, так как не имели средств для занятия наукой. Голодали художники, потому что не было условий, позволяющих заниматься искусством. А некоторые поэты прониклись отвращением ко всему миру и реальной действительности и писали стихи о смерти, воспевали красоту упадка и мечтали о сладости полнейшего уничтожения.
Сложившейся обстановкой были довольны только хозяева прессы. Журналисты, писавший в буржуазных газетах, неутомимо доказывали, что оружие принесет мир, что угрозы способствуют безопасности, что присутствие в стране иноземных солдат наилучшим образом гарантирует самобытность и национальную независимость. Журналисты писали, что им приказывали. Они продавали свое умение, как любой человек в эпоху либерализма продает свои товары. Они лгали не ради своего удовольствия — они лгали за деньги.
Лектор Карелиус газет не читал. Преподаватель истории наслаждался покоем, углубляясь в далекое прошлое. Он перечел классические элегии Овидия и его «Письма с Понта». Как подлинный гуманист, он понимал поэта и сочувствовал ему. Он мысленно протестовал против того несправедливого акта, который властители государства совершили в восьмом году нашей эры, выслав в изгнание великого поэта.
Он читал и слышал, как в далеком мире рабочие непрестанно бьют молотом по фундаменту, так что земля начинает колебаться.
Лектор Карелиус был гуманист. А гуманисты всегда предоставляют другим работать молотом вместо себя.
ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ
Ближе к зиме газеты сообщили, что «Скорпион» Кнуд Эрик Лэвквист сдался — хочет облегчить свою совесть и выложить все начистоту. Такое решение было принято после длительных переговоров между арестованным «Скорпионом» и полицейским адвокатом Бромбелем. Господа заключили напоследок соглашение, или — как теперь по-новомодному говорили в стране — a gentlemen's agreement[64]. Надо ведь было как-то покончить с этим делом. Не следовало затягивать его больше, чем требовало приличие. Все уяснили себе, что жертвы необходимы, но ясно было также и то, что в интересах общества ограничить размеры ущерба. Государство нуждалось в восстановлении подорванного доверия.
«Доверие — вот что требуется нашей стране! — бог знает в который уже раз писала газета „Дагбладет“. — Доверие, доверие и еще раз доверие!»
А в дневном выпуске этой газеты, который подготовлялся в другом конце здания, редактор Чарльз Д. Стенсиль писал, что такое доверие налицо.
«Исключительно умелая работа полиции, которая ведется чуть ли не круглые сутки, скоро увенчается успехом, — писал он. — Преступная свистопляска военного времени вокруг золотого тельца наложила свою печать на это дело. Шакалы из преступного подполья, орудовавшие в период безвременья, когда полиция бездействовала, пойманы теперь вместе со своими руководителями. С окончанием так называемого „дела о Скорпионе“ должно исчезнуть последнее напоминание о ненормальной обстановке того периода. В самом деле, приходится признать тот достойный сожаления факт, что даже люди, находившиеся в рядах нашей полиции, поколебались в результате исключительно тяжелого стечения обстоятельств и на поверку оказались недостаточно устойчивыми. Однако, и это также следует признать, та рука, которая взвешивала их деяния, не дрогнула! Паршивых овец одну за другой выволокли на свет божий, невзирая на чин, — беспристрастность и составляет истинную сущность демократии. Теперь беспредметная критика должна замолчать и дать возможность полиции спокойно работать, в чем мы так нуждаемся! Теперь наша полиция, очищенная от подозрений, может поднять голову. Мы кричим руководителю этой генеральной чистки, полицейскому адвокату Бромбелю, троекратное браво! Cheerio![65]»
Эту статью спешно набрасывал редактор «Специального листка», когда поступили сведения, что торговец овощами Лэвквист начал кое в чем признаваться.
По совету полицейского адвоката Бромбеля, Кнуд Эрик Лэвквист отказался от услуг своего защитника, приглашенного частным порядком, и подал прошение о том, чтобы ему назначили другого. Признания были повторены на закрытом судебном заседании. Газеты, которые не получили туда доступа, писали, что торговец овощами плакал, как ребенок.
— Пусть черт меня слопает, но это ложь! — заявила фру Беата Лэвквист. — Ей-богу, Кнуд Эрик неспособен лить слезы. Чего только не напишут в этих паршивых газетах!
— Боже ты мой! Да мало ли что им в голову взбредет! — заметил сержант полиции Йонас. Он явился прямо от Кнуда Эрика Лэвквиста, чтобы передать его последние инструкции относительно размещения одной крупной суммы в долларах. Остальное состояние — автомобили, вилла, драгоценности, заграничные активы и наличные деньги — было выгодно и надежно размещено и останется неприкосновенным. У фру Беаты хорошие связи.
— Ты ждешь его сегодня вечером? — спросил Йонас.
— Черт возьми, нет! Ты, право, можешь остаться, мой милый сыщик! Он уехал на завтрак. Приедет не раньше будущей недели, — сказала Беата.
— Разве завтрак продолжается так долго?
— Да ведь это далеко отсюда, ты же знаешь. Он должен завтракать у японского императора, говорят, император — очаровательный человек. Я должна была поехать вместе с ним, но я не люблю летать зимой на самолете.
— А его жена?
— Она в Лондоне, ищет себе перчатки. Лондон — единственное в мире место, где можно найти приличные перчатки. Она очень, очень милая и свободомыслящая женщина… Ну вот, песик снова пустил лужу! Фу, как тебе не стыдно, Айк!
Фру Лэвквист погрозила пальцем маленькому белому пуделю, который намочил ковер.
Йонас с восхищением смотрел на эту даму, в лице которой темный подпольный мир объединялся с самым высшим светом; да и говорила она вульгарным языком, принятым среди верхушки интеллигенции. Нажав звонок, она сказала вошедшей горничной:
— Песик снова намочил ковер! Придется вам убрать за ним!
Маленький коротконогий черный терьер с усами давно перестал быть модной собакой, и теперь его заменили пуделем. Белый шелковистый пудель гораздо больше гармонировал с чашками стиля ампир и пестрыми обоями в розах, какие были в моде во времена прабабушек.
— Он подарил мне его перед самым отъездом. Ему не нравился Дин, потому что пес пил его кофе. Ну разве пудель не милашка? И очень подходит к здешнему стилю, правда? Но он все время пускает фонтан, поросенок этакий! Настоящий тролль-проказник!
— Как его зовут? — спросил сыщик.
— Его зовут Айк, мамочкин маленький Айк.
— Ах вот как! Очень хорошая кличка для собаки.
— Дин тоже был очень милый! — грустно проговорила фру Беата. — Его, бедняжку, отправили в Высшую сельскохозяйственную школу, чтобы умертвить. Но он совсем не страдал, его усыпили. Я не люблю, когда мучат животных. Правда, милый Айк? Хочет мамочкина собачка съесть конфетку?
Вынув из роскошной коробки конфетку с орехами и ромом, Беата дала ее Айку. Он ласково помахал своим львиным хвостом и стал ужасно похож на зверя в национальном гербе этой страны. Его «мамочка» пила только неразбавленное виски, а Йонас — свое любимое пиво. В этой большой комнате, где абажуры смягчали яркий свет ламп, было очень уютно. Несмотря на центральное отопление, в камине пылали березовые дрова и своим красноватым пламенем выгодно освещали фигуру хозяйки. Пахло лавандой и виски. Повсюду были разложены толстые ковры и мягкие подушки. Успокоительно тикали старинные часы, которые показывали движение солнца, луны и планет. На полке стояли книги в хороших переплетах.