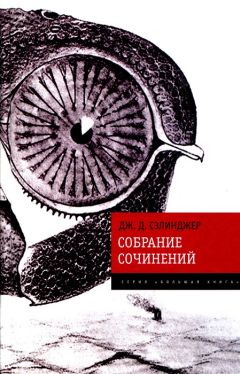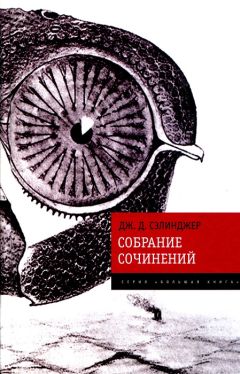Джером Сэлинджер - Повести о Глассах
Как присуще поэзии вообще, и особенно стихам с ярко выраженным «влиянием» китайской и японской поэтики, и у Симора в его стихах тоже все предельно обнажено и неизменно лишено всякого украшательства. Но приехавшая ко мне на уикенд с полгода назад младшая сестра, Фрэнни, случайно, роясь в моем столе, нашла именно то стихотворение про вдовца, которое я только что (преступно) пересказал своими словами: листок лежал отдельно, и я хотел его перепечатать. Не важно почему, но Фрэнни никогда этого стихотворения не читала и, конечно, тут же прочла его. Потом, когда зашел разговор об этих стихах, она сказала, что ее удивляет, почему Симор написал, что молодой вдовец дал кошке покусывать именно левую руку. Ей было как-то не по себе. Вообще, говорит, это больше похоже на тебя, чем на Симора, – подчеркивать, что именно речь идет о левой руке. Кроме клеветнического намека в мой адрес насчет того, что я в своих писаниях все больше и больше вдаюсь во всякие детали, она, очевидно, хотела сказать, что этот эпитет показался ей навязчивым, слишком подчеркнутым, непоэтичным. Я ее переспорил и, откровенно говоря, готов, если понадобится, поспорить и с вами. Я совершенно уверен, что Симор считал жизненно важным упоминание о том, что именно в левую, в менее нужную руку молодой вдовец дал белой кошке запустить острые зубки, тем самым оставляя правую руку свободной, чтобы можно было бить себя в грудь или ударить по лбу, – впрочем, зря я вдался в такой разбор, многим читателям он, наверно, покажется ужасно скучным. Пожалуй, так оно и есть. Но я-то знаю, как мой брат относился к человеческим рукам. Кроме того, тут кроется и другая весьма немаловажная сторона этого отношения. Может быть, разговор на эту тему покажется безвкусицей – вроде того, как вдруг начать читать по телефону совершенно чужому человеку все либретто «Эби и его ирландской Розы», – но я должен сказать, что Симор был наполовину еврей, и хотя не могу говорить на эту тему так же авторитетно, как великий Кафка, но в сорок лет уже имею право трезво утверждать, что всякий думающий индивид, с примесью семитской крови в жилах, живет или жил в особо близких, почти интимных взаимоотношениях со своими руками, и хотя потом он годами, буквально или иносказательно, прячет их в карман (боюсь, что иногда он убирает их, как двух назойливых и старых непрезентабельных приятелей или родственников, которых предпочитают не брать с собой в гости), и все-таки он вдруг, в какой-то критический момент, начнет жестикулировать и уж в такую минуту может сделать самый неожиданный жест – например, чрезвычайно прозаически упомянуть, что именно левую руку кусала кошка, – а ведь поэтическое творчество, безусловно, является таким критическим для человека, его наиболее личным переживанием, за которое мы ответственны. (Прошу прощения за это словоизвержение, боюсь только, что чем дальше, тем его будет больше.) Вторая причина – почему я думаю, что именно это стихотворение Симора представляет особый – и, надеюсь, истинный – интерес для моего постоянного читателя; в нем есть то странное, исключительно сильное чувство, которое автор и хотел в него вложить. Ничего похожего я в других книгах не встречал, а ведь я, смею сказать, с самого раннего детства почти до сорока лет прочитывал не менее двухсот тысяч слов в день, а бывало, и тысяч до четырехсот. А теперь, когда мне стукнуло сорок, мне редко хочется что-то выискивать и, когда мне не приходится проверять сочинения – свои собственные или моих юных слушательниц, – я читаю совсем мало – разве что сердитые открытки от своих родичей, каталоги цветочных семян, разные отчеты, любителей птиц и трогательные записочки с пожеланиями скорейшего выздоровления от моих старых читателей, которые где-то прочли дурацкую выдумку о том, будто я полгода провожу в буддистском монастыре, а другие полгода – в психбольнице. Во всяком случае, я понял, что высокомерие человека, ничего не читающего или читающего очень мало, куда противнее, чем высокомерие некоторых заядлых читателей, – поэтому я и пытаюсь (и вполне серьезно) по-прежнему упорно настаивать на своем прежнем литературном всезнайстве. Возможно, что самое смешное – моя глубокая уверенность в том, что я обычно могу сразу сказать: пишет ли поэт или прозаик о том, что он узнал по опыту из первых, вторых или десятых рук, или он подсовывает нам то, что ему самому кажется чистейшей выдумкой. И все же, когда я впервые, в 1948 году, прочитал – вернее услышал – стихи Симора «молодой вдовец – белая кошка», мне трудно было себя убедить, что Симор не похоронил хотя бы одну жену втайне от нашей семьи. Но этого, конечно, не было. Во всяком случае, если это и произошло с ним (первым тут покраснею никак не я, а скорее мой читатель), то в каком-нибудь предыдущем воплощении. И, зная моего брата так близко и досконально, могу сказать, что никаких молодых вдовцов среди его хороших знакомых не было. Наконец, могу сказать, хоть это и лишнее, что сам он – обыкновенный молодой американец – нисколько не походил на вдовца. (И хотя вполне возможно, что иногда, в минуту мучительную или радостную, любой женатый человек, в том числе предположительно и Симор, мог бы мысленно представить себе, как сложилась бы жизнь, если бы его юной подруги не стало, думается мне, что первоклассный поэт мог бы сделать на основе такой фантазии прелестную элегию, но все эти мои соображения – только вода на мельницу всяческих психологов и моего предмета не касаются.) А хочу я сказать и постараюсь, как это ни трудно, сказать покороче, что чем больше стихи Симора кажутся мне чисто личными, чем больше они звучат лично, тем меньше в них отражены известные мне подробности его реальной повседневной жизни в нашем западном мире. Мой брат Уэйкер (надеюсь, что его настоятель никогда об этом не узнает) говорил, что в своих самых личных стихах Симор пользуется опытом своих прежних перевоплощений – всеми до странности запомнившимися ему радостными или печальными событиями его жизни в заштатном Бенаресе, феодальной Японии, столичной Атлантиде. Молчу, молчу – пусть читатель успеет в отчаянии развести руками или, вернее, умыть руки и отречься от нас всех. И все же мне кажется, что те мои братья и сестры, которые еще живы, громогласно подтвердят, что Уэйкер прав, хотя кто-то из них и внесет свои небольшие поправки. Например, Симор в день своего самоубийства написал четкое, классическое хокку на промокашке письменного стола в номере гостиницы. Мне самому не очень нравится мой подстрочный перевод этого стиха, написанного по-японски, но в нем коротко рассказано про маленькую девочку в самолете, которая поворачивает головку своей куклы, чтобы та взглянула на поэта. За неделю до того, как стихотворение было написано, Симор действительно летел на пассажирском самолете и моя сестра, Бу-Бу, как-то предательски намекнула, что на этом самолете и вправду была такая девочка с куклой. Но я-то сомневаюсь. А если бы так и было – во что я ни на минуту не поверю, – то могу держать пари, что девочка и не думала обращать внимание своей подружки именно на Симора.
Не слишком ли я распространяюсь насчет стихов моего брата? Не разболтался ли я чересчур? Да. Да. Я слишком распространяюсь о стихах моего брата. Да, я разболтался. И мне очень неловко. Но, только я хочу замолчать, всякие доводы против этого начинают размножаться во мне, как кролики. Кроме того, как я уже категорически заявлял, что хотя я и счастлив, когда пишу, но могу поклясться, что я никогда не писал и не пишу весело; моя профессия милостиво разрешает мне иметь определенную норму невеселых мыслей. Например, мне уже не раз приходило на ум, что, если я начну писать все, что я знаю о Симоре как о человеке, у меня, вероятно, не останется места говорить о его стихах, пульс у меня участится и пропадет всякое желание писать о поэзии вообще, в широком, но точном смысле слова. И в эту минуту, хватаясь за пульс и попрекая себя за болтливость, я вдруг пугаюсь, что вот тут, сейчас, я упускаю свой единственный в жизни шанс – скажу даже, последний шанс – публично, громогласно заявить, верней прохрипеть, свое окончательное спорное, но решительное мнение о месте моего брата в американской поэзии. Нет, эту возможность мне упустить нельзя. Так вот: когда я оглядываюсь и прислушиваюсь к тем пяти-шести наиболее самобытным старым американским поэтам – может их и больше, – а также читаю многочисленных, талантливых эксцентрических поэтов и – особенно в последнее время – тех способных, ищущих новых путей стилистов, у меня возникает почти полная уверенность, что у нас было только три или четыре почти абсолютно незаменимых поэта и что, по-моему, Симор, безусловно, будет причислен к ним. Не завтра, конечно, – чего вы хотите? И я почти уверен, хотя, быть может, и преувеличиваю эту свою догадку, что в первых же довольно скупых отзывах рецензенты исподтишка угробят его стихи, называя их «интересными» или, что еще убийственней, «весьма интересными», а в подтексте, в туманном косноязычии, намекнут, что эти стихи – мелочь, чуть слышный лепет, который никак не дойдет до современной западной аудитории, хоть читай их там со своей переносной трансатлантической кафедры, где на столике – стаканчик и чашка со льдом из океанской водички. Но, как я заметил, настоящий художник все перетерпит (даже, как я с радостью думаю, и похвалу); Кстати, мне тут вспомнилось, как однажды, когда мы были совсем мальчишками, Симор разбудил меня, – а спал я очень крепко, – возбужденный, в расстегнутой желтой пижаме. Вид у него был, как любил говорить наш брат Уолт, словно он хотел крикнуть «Эврика!». Оказывается, Симор хотел мне сообщить, что он, как ему кажется, наконец понял, почему Христос сказал, что нельзя никого звать глупцом. (Эта проблема мучила его целую неделю, так как ему казалось, что такой совет больше похож на «Правила светского поведения» Эмили Пост, чем на слово Того, Кто творит волю Отца Своего.) А Христос так сказал, сообщил мне Симор, потому, что глупцов вообще не бывает. Тупицы есть, это так, а глупцов нет. И Симору казалось, что для такого откровения стоило меня разбудить, но если признать, что он прав (а я это признаю безоговорочно), то придется согласиться с тем, что если немного переждать, то даже критики поэзии докажут в конце концов, что они не так глупы. Откровенно говоря, мне трудновато согласиться с этой мыслью, и я рад, что в конце концов дошел до самой головки этого абсцесса, до этих неотвязных и, боюсь, все болезненней нарывавших во мне рассуждений о стихах моего брата. Я сам это чувствовал с самого начала. Ей-богу, жалко, что читатель заранее не сказал мне какие-то жуткие слова. (Эх вы, с вашим «молчанием – золотом». Завидую я вам всем.)