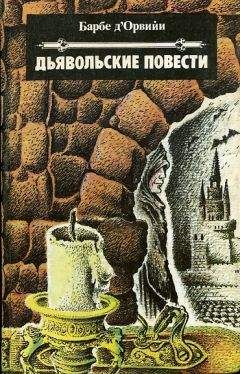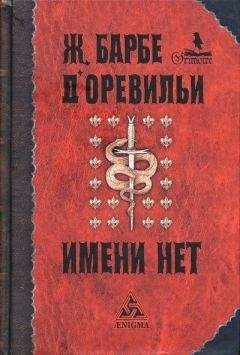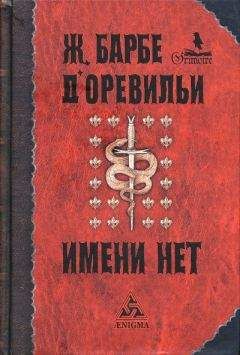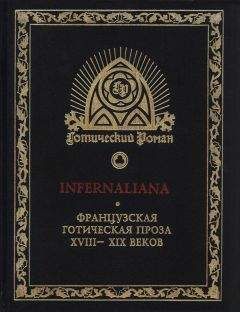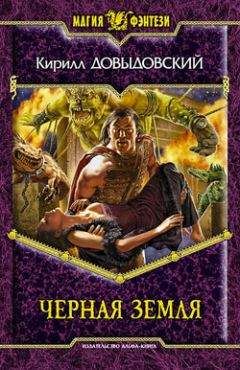Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Те, что от дьявола
— Вы прекрасно понимаете, — продолжал Менильгранд, — что пикантные особенности стали известны гораздо позже. Поначалу, когда она только появилась в восьмом драгунском полку, все увидели хорошенькую, можно даже сказать, красивую девушку, чем-то похожую на принцессу Полину Боргезе[123], сестру императора. Принцесса Полина тоже выглядела целомудренной девственницей, но все вы знаете, отчего она умерла… У Полины не было и капли стыдливости, которая помогла бы порозоветь хоть одному-единственному крошечному участку ее прелестного тела, зато у Розальбы ее было в избытке, и она становилась от смущения пунцовой вся целиком. Розальбе и не снилось простодушие Полины, которая на вопрос: как она могла позировать Канове обнаженной?! — ответила: «В мастерской же топилась печка! Мне было тепло!» Если бы с подобным вопросом обратились к Розальбе, она убежала бы, закрыв чудесно порозовевшее лицо чудесно порозовевшими руками. Но не сомневайтесь, убегала бы так, что все соблазны ада таились бы в складках ее платья!
Так выглядела Розальба, и ее невинный вид обманул всех нас, когда она появилась в полку. Фельдшер мог представить ее как свою законную супругу или даже как дочь, мы бы ему поверили. Она смотрела прелестными светло-голубыми глазами, но сама становилась прелестнее, когда их опускала: опущенные веки оказывались выразительнее, чем взгляд. Для солдат, имевших дело с войной и особого рода женщинами, появление столь невинного существа, которому, по простонародному, но выразительному выражению, «боженьку дали бы и без исповеди», было неожиданностью. «Хорошенькая, черт побери, девчонка, — шептались ветераны полка, — но уж больно недотрога! Интересно, как ей удается удоволить господина фельдшера?» Фельдшер знал, как, но ни с кем не делился тайной. Своим счастьем он наслаждался в одиночестве, как в одиночестве пьют настоящие пьяницы. Он никому не рассказывал о своих тайных радостях, став впервые в жизни скромным и верным, это он-то, гарнизонный Лозен, самовлюбленный фат, которого, как рассказывали знавшие его в Неаполе офицеры, прозвали «трубным гласом разврата». Красота, которой он так гордился, повергла бы к его ногам всех красоток Испании, если бы одну красотку он уже не заполучил.
В ту пору мы находились на границе между Испанией и Португалией, впереди нас ждали англичане, а пока мы занимали те города, которые не слишком противились владычеству короля Жозефа Бонапарта[124]. Идов и Розальба жили вместе, как жили бы в гарнизоне в мирное время. Вы все помните войну в Испании, помните, как медленно мы продвигались вперед и как отчаянно дрались. Ведь мы не просто завоевывали страну, мы устанавливали новую династию и новые порядки. Ожесточенные бои сменялись затишьями, и между двумя кровопролитными битвами мы, хоть и в окружении врагов, радовали в самых «офранцуженных» городах празднествами испанок. Благодаря нашим празднествам жена фельдшера Идова, как все ее тогда называли, уже многими замеченная, стала настоящей знаменитостью. Она и в самом деле сияла среди смуглых темноволосых испанок, как бриллиант в окружении гагатов. Вот тогда-то к ней и стали притягиваться мужчины, соблазняла их, без сомнения, дьявольская двойственность ее натуры: сладострастие разнузданной куртизанки и небесное лицо мадонны Рафаэля.
В нее влюблялись, вокруг нее разгорались страсти. Прошло немного времени, и влюблены уже были все. Из-за Стыдливой, как всем нравилось ее называть, потеряли голову даже старики, даже генералы, которым по возрасту полагалось бы образумиться. Ей оказывали знаки внимания, за ней ухаживали, из-за нее дрались на дуэлях — словом, закипели страсти, какие обычно вскипают вокруг красавиц, пробудивших пылкость необузданных вояк, не расстающихся с саблей. Она стала султаном грозных одалисок и бросала платок тому, кто ей приходился по вкусу, а по вкусу ей приходились многие. Что касается Идова, то он не обращал внимания ни на пересуды, ни на ухаживания. Что избавляло его от ревности? Самовлюбленность? Тщеславие? Или, чувствуя себя изгоем из-за общей ненависти и презрения, он тешил свое самолюбие тем, что владеет женщиной, ставшей предметом домогательств его врагов? Предполагать, что он ничего не замечает, было невозможно. Я наблюдал порой, как изумруды Антиноя превращались в налитые кровью карбункулы, когда фельдшер смотрел на того из нас, кого молва в тот миг называла любовником его половины, но он сдерживался… А поскольку никто о нем хорошо не думал, придерживаясь на его счет самых оскорбительных мнений, то и его безразличие, а то и сознательную слепоту объясняли самыми низменными мотивами. Полагали, что жена для него не столько возможность тщеславиться, сколько возможность удовлетворять свои карьерные амбиции — так сказать, не пьедестал, а лестница. Толковали об этом обычно шепотом, фельдшер ничего не слышал. У меня были свои основания, чтобы наблюдать за Идовом, мне казалось, что ненависть и презрение к нему необоснованны, и я задавал себе вопрос: слабость или сила таится за сумрачной невозмутимостью этого человека, которого каждый день предает его сожительница, а он ни единым движением не выдает, сколь болезненны укусы ревности. Ей же богу, господа, все мы знавали мужчин, связанных с женщиной такой роковой страстью, что они продолжали верить ей и тогда, когда все свидетельствовало против нее, а если измена и для них становилась очевидностью, то вместо того, чтобы мстить, они зарывались в свое подпорченное грязцой счастье, завернувшись в бесчестие, как в одеяло.
Был ли фельдшер Идов из их когорты? Вполне возможно. Скорее всего, да. Стыдливая вполне могла разжечь в нем подобную унизительную привязанность. Античная Цирцея, превращавшая мужчин в свиней, не могла сравниться ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем со Стыдливой, этой Мессалиной-девственницей. Безудержная похотливость, разжигавшая наших господ офицеров, не слишком деликатных по отношению к женщинам, очень быстро скомпрометировала ее в их глазах, но Розальба ни разу не скомпрометировала себя. Это важный нюанс, и нужно иметь его в виду. Она вела себя так, что никто не мог предъявить ей ни малейших претензий. И если у нее появлялся любовник, то это оставалось тайной ее алькова.
Она соблюдала все приличия, и формально фельдшер не располагал ни малейшим поводом для ссоры или скандала. Уж не любила ли она его, в самом деле? Как-никак она оставалась с ним, а могла бы, если б захотела, уйти к кому-нибудь другому, более удачливому. Я знал одного маршала, он был от нее без ума и с удовольствием вырезал бы из своего маршальского жезла ручку для ее зонтика. Но, скорее всего, для этой женщины верно то, что я только что сказал о мужчинах… Есть женщины, которые любят… нет, не любовника, хотя и его в какой-то мере тоже… «Карп всегда будет сожалеть о грязной тине», — сказала госпожа де Ментенон[125]. Розальба не хотела сожалеть, она не вылезала из густой грязной тины, ухнул в нее и я.
— Однако ты не деликатничаешь, рубишь сплеча, — заметил капитан Мотравер.
— А с какой стати деликатничать, черт побери? — возразил Менильгранд. — Все мы знаем песенку, какую пели в восемнадцатом веке:
Буфлер явилась при дворе,
Сама любовь! — решили все.
И всяк искал ее щедрот
И получал… Но в свой черед!
Черед дошел и до меня. Женщины у меня были, много женщин. Но говорю откровенно, такой, как Розальба, никогда. Грязь оказалась райской. Я не собираюсь занимать вас психологическим анализом, как какой-нибудь романист. Я — человек действия и в делах любви прям и груб, как граф Альмавива. Любви в том возвышенном и романтическом смысле, который принято придавать этому чувству и который я придаю ему первый, я к Розальбе не испытывал. Душа, ум, гордость не имели никакого отношения к тому счастью, каким меня одарила Розальба, но не было оно и легковесной фантазией. Я не подозревал, что в чувственности есть глубина, и открыл для себя ее глубины. Вообразите себе чудеснейший персик с розовой мякотью, и вы надкусываете его… Впрочем, нет, ничего не воображайте: ни один образ не передаст сладость, какой сочился человеческий персик, розовеющий даже от мимолетного взгляда так, как если бы его надкусили. А что было, когда ты касался его не взглядом, а страстно прикусывал зубами, чувствуя трепет нежнейшей плоти? Тело заменяло этой женщине душу. И однажды вечером она отдала мне его, устроив празднество, рассказ о котором позволит вам узнать эту женщину лучше, чем любой анализ. Да, однажды вечером она имела смелость, вполне возможно, не совсем обычную и даже неприличную смелость пригласить меня к себе; принимала она меня в пеньюаре из индийского муслина, этаком прозрачном белом облаке, сквозь которое просвечивали ее прелестные соблазнительные формы, розовеющие от разгорающегося сладострастия и стыдливости. Черт меня побери, но она напоминала в своем облаке живую статую из коралла! С тех пор белизна женской кожи для меня не более чем…