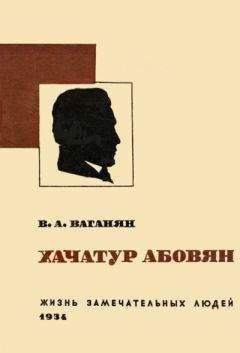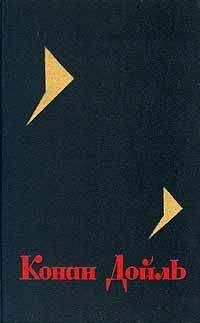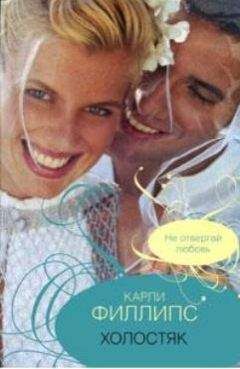Хачатур Абовян - Раны Армении
Бог да укрепит престол русского царя, от его державы все, что угодно, у нас есть; яйца змеиного захочу — и то найдется.
Агаси ни разговоров, ни бесед — ничего не слышал. Он устал с дороги. Холод его пронял, а потом и жар в помещении подействовал. Вес это его одолело и, приклонив голову к стене, он сидя спал.
Все же сидевшие кругом разглядывали его: что бы ни говорилось, даже улыбка не появлялась на его лице. Правая рука его лежала на коленях, левая, ослабев, отвисла в сторону. Многие думали, что это он с дороги да от холода. Покрывать его ничем не нужно было — в саку было жарко, как в бане.
Гости не приметили, что несколько тюрков из того же села, смешавшись с толпой, тоже вошли в дом. Многие из них понимали по-армянски. Усевшись по разным местам, воровато, они жадными глазами глядели на шашки и ружья приезжих и скрежетали зубами — видно, жалели, что не повстречали их где-нибудь в степи и не ограбили всего этого добра.
Агаси был весь в поту. Испарина, как облако, застлала ему глаза и брови. Цвет лица его менялся ежечасно. Он то разговаривал сам с собою, то поднимал руку, расправлял мышцы и опять впадал в сон.
Более всего удивляло всех то, что гостей было всего шесть человек, а оружия и доспехов привезли они на добрых двадцать.
В недоумении стояли они кругом и разговаривали, как вдруг Агаси закричал:
— Оттяни шашку, страж ада, — вытяни шею! Отец-джан, куда это ведут тебя?..
Сказал, вскочил с места и побежал к шашке.
Сельчане, расталкивая друг друга, высыпали на улицу. Кто крестился, кто шептал: господи, помилуй!..
Успокоившись немного, стали прислушиваться из-за дверей. Убедившись, что он умолк, осторожно вошли опять и робко сели.
Но кто теперь мог бы заткнуть им рот? Все хотели непременно знать, что случилось.
Товарищам Агаси волей-неволей пришлось рассказывать. Пока речь шла о начале дела, все было ничего, подобных вещей немало приходилось слышать, но едва дошли до того места, как они порубили врагов, как те бежали, — сто уст вскричали зараз:
— Молодец, Агаси! Молодец! Доброй крови, — удалой армянин таким и должен быть. Вот уж масленица, так масленица! Ну ребята, чего ждете? Готовьте еду, стелите скатерть, ангел праотца Авраама[163] пожаловал к нам. Да я за такого удалого парня душу отдам. Молодцы, ребята! Врагу так и следует мстить. Видите, ребята, — обратился он к своим сыновьям, — вот каким должен быть храбрый молодец, а вы все дома сидите, хлеб жуете. Молодцы, ребята, что своего старшого так сберегли! А собака тоже тут?..
И взрослые мужчины и молодые парни со всех сторон бросились к Агаси — поцеловать его в руку, в лоб, но старшина не допустил, чтобы его разбудили. Остальных так прижимали к груди, что казалось, готовы живьем их съесть.
— Благословенно молоко матерей ваших, благословенна земля, вас породившая! Вот таким и должен быть настоящий молодец. А не то, коль укоротишь язык да нагнешь голову, как раз на шею тебе сядут, мозги выцедят, глаза выколют, все потроха из тебя выпустят… — говорили со всех сторон.
Раздались саз и зурна, — тогда только Агаси открыл глаза и в таком изумлении смотрел по сторонам, точно вот-вот на свет родился. Хотел было он опять глаза закрыть, но люди так на него набросились, что чуть ногами не затоптали. Не то что лицо, — полы одежды его целовали. Таким образом и он оказался в их кругу, и они до вечера, пока не началась всенощная, кутили, да так, что надо бы лучше, да нельзя!
Скорехонько и на селе об этом узнали, и уж кто угодно вваливался в дом, — увидеть Агаси, исполнить заветное свое желание. Словно на богомолье шли.
Старшина послал в Караклис к князю сообщить о происшедшем. В ответ пришел приказ явиться к князю через несколько дней Агаси самому.
5Памбакские тюрки опечалились, а армяне окрылились, — подняться с земли да и летать!
Масленая прошла, наступил великий пост. Когда Агаси с двадцатью-тридцатью всадниками въехал в Караклис, весь народ караклисский вышел навстречу — поглядеть на него. Тысячи уст его превозносили, кричали: — «Молодец!..»
Князь Саварзамирза очень его обнадежил, ласково обошелся с ним и даже обещал как-нибудь замолвить за него словечко сардару — они были между собой большими приятелями. Приказал дать им все необходимое и хорошенько смотреть, чтоб им никто не причинил вреда. Да разве ж памбакские-то армяне умерли? Кто же мог им вред причинить?
Так всю зиму напролет всех тридцать всадников и водили из села в село и по целым дням, а то и неделям угощали, так что они уж в конце-концов устали совсем.
Храбрые лорийцы[164] тоже, как узнали, что они неподалеку, успокоиться не могли, хотели непременно зазвать их к себе и принять. Около месяца пробыл Агаси и тут.
Чистосердечие этих славных людей, их искренняя любовь, отменный воздух и вода тех мест, наконец, надежда, поданная князем, вернули Агаси к жизни, на сердце у него полегчало.
Он стал опять говорить, беседовать, слушать, однако печаль не переставала ложиться тенью на лицо его и омрачать взор, как черная туча. Нередко он вздыхал, — тогда камни и земля плакали. Когда он улыбался, уста его похожи были на увядшую розу, — только оживится она от росы, как опять уже вянет, поникает.
Частенько видели: сидит он на камне или прислонясь к скале, глаза устремлены на ущелье, на реку, рукою подпер он голову, а то лежит где-нибудь на боку возле потока, развлекает себя, играя с кустами, с травой, с цветами, с водою — и плачет.
Порою, когда вскрикивал он вдруг — «Назлу!» или называл имена родителей, — горы и ущелья вторили ему, горько рыдая. Поскольку сам был он печален и удручен, ему казалось, что у людей нет сердца, раз они могут радоваться, веселиться, потому-то горы и ущелья стали друзьями его печали. Как тосковал он по отцу с матерью, как стремился душой к сестрам и братьям, как всецело горе полонило его сердце!
Глядел он в сторону Еревана, но в той стороне и дымок даже не виднелся, ни одна гора знакомая не подымалась, — ничто не могло хоть немного облегчить его сердце.
В это время случилось ему как-то собрать товарищей и отправиться на охоту. Проехали Гамзачиман[165] и Чибухлу[166], Доехали до Гарниярага[167], и тут представился глазам его Масис. Агаси махнул товарищам рукой, чтоб они отошли в сторону, сам сел под кустом, положил голову на камень и весь в слезах и тоске пропел такую песню:
По горам-долам, по сухой земле
Брожу, сижу, гляжу на реку,
Рука на груди, головой к скале,
Хочу слезами залить тоску.
А тучи кругом сошлись, собрались
Любуюсь тобой, мой сладкий Масис.
Слезою горючей насквозь прожжен,
Гляжу на тебя, в кремень обращен.
Родимые, дом, — далек я от вас.
Гляжу я на месяц — и вас люблю.
Увижу ли вас, настанет ли час?
Когда ж я лаской печаль утолю?
Когда ж, родные, вас обниму,
К лицу дорогому лицо прижму,
Колени в колени ваши уткну? —
За вас, родители, смерть приму!
Глаза на дорогу я проглядел,
Возьмется ли птица в выси кружить, —
— Не с вестью ли, вестник, ты прилетел?
Промолвлю — и снова начну тужить.
Живы ли вы? Тоской изошли?
Плачете ль вы, что пропал ваш сын?
Иль уж спите в лоне земли,—
А я страдаю, взываю один?
Достоин ли я ваших нежных чувств,
Благословенья святых ваших уст?
Старик-отец, несчастная мать,
Придет ли мир мне помощь подать.
Святое родительское молоко!
Пресветлые руки, сладкая речь!
Когда ж удостоюсь вкусить покой,
Рядышком с вами в могилу лечь?
Счастливые дни! На лоне родном,
Приоткрыв глаза, вам припав на груди
На ваших руках, в подушку лицом,
Как сладко бывало играть, уснуть!..
Счастливые дни! В саду деревцо,
И люлька моя, и вы надо мной:
Целую святое ваше лицо
И сладостно сплю под напев родной
Где тень? Зеленый где бережок?
Трава, цветы, долина, лужок?—
Чтоб мог я, резвясь, веселить сердца
Возлюбленной матери и отца.
Заплачу — слезы в глазах и у вас,
Засмеюсь — уж вы зовете тотчас:
— Агаси мой, джан, подойди скорей,
Ненаглядный мой, свет жизни моей!
Ах, эти слова — живые огни,
Сжигают они все нутро насквозь.
Зачем умереть в те светлые дни
Под кровом родимым мне не пришлось?
Тоскую теперь по горсти земли, —
В волне ль утону, с утеса ль паду?
Но, увы, без вас, пока вы вдали,
Ужели спокойно в землю сойду?
Назлу несравненная, друг — Назлу,
Лишь вспомню тебя — и не мил мне свет.
Назлу моя дивная, друг — Назлу,
От мужа прими последний привет.
В глубине теснин и в горах, в выси,
Сгорает от горя твой Агаси.
Лишенный тебя, с любовью к тебе
Голубкой сидит на сухом кусте.
Я землю лижу, тоскую, горю,
Себя до срока тоской уморю.
Пусть смерть с холодным крылом придет,
Потребует душу и унесет.
Из горького света уйду скорей!
Мои кости станут пиром зверей.
Когда в забытьи над рекой сижу,
Закатив глаза, немею, дрожу.
Скатиться хочу я в пену реки,
Умереть с глубоким вздохом тоски,
Пускай волна меня погребет, —
Оденет саван из хладных вод
Стану в выси над утесом нагим,
Увижу дома родимого дым, —
Но сладостный лик твой навеки незрим,
Назлу моя, сладостный друг Назлу,
Во власть отдаюсь я смертному сну, —
И чудится мне, что в пропасти я,
Что будто в бездну уносит меня,
Назлу, о Назлу, дышу я едва,
Померкли глаза, горит голова.
Вдохнуть лишь тебя, и тогда — хоть в ад
Я буду спокоен и смерти рад.
Тебя, ненаглядная, жду и жду,
К могиле везде и всегда бреду.
Но что мне могилы искать еще?
Могилой — хладное тело мое.
Как обещала, меня схорони,
Сама приди, детей приведи, —
Чтоб их я увидел в последний миг,
Сказал бы, пока не умолк язык:
— Прощайте, дети, пришел конец,
Любимых своих покидает отец.
Будете душу отца поминать
Прощайте, милые, — срок умирать.
Нет больше отца — берегите мать,
По мне приходите поминки справлять.
Всякому известно, что, когда сердце у человека обливается кровью, то ни меч, ни лекарство, ни сон так для него не благотворны, как слово и речь, но особенно песня, заунывное баяти. Потому-то его товарищи отошли в сторону и лишь издали за ним наблюдали, чтоб не случилось с ним какой беды, так как горы и ущелья искали его смерти.