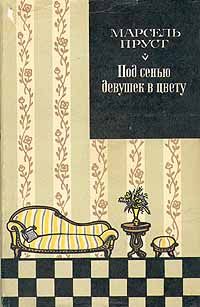Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету
Впечатление, что г-жа Сван гуляет по авеню Булонского Леса как по аллее собственного сада, усиливалось еще благодаря тому — особенно у людей, которым не была известна ее привычка к «footing», — что она приходила пешком, и экипаж не следовал за ней, за этой женщиной, которую, начиная с мая-месяца, все привыкли видеть проезжающей в огромной открытой восьмирессорной виктории, где она, обвеваемая теплом, восседала томная и величественная, как богиня, причем упряжь была самая лучшая и ливрея самая корректная в Париже. Когда г-жа Сван шла пешком, то, главным образом благодаря походке, более медленной из-за жары, создавалось впечатление, что она поддалась любопытству, что она изящно нарушила правила этикета, точно монарх, который, ни с кем не посоветовавшись, сопутствуемый восхищением несколько скандализованной свиты, не смеющей ничего сказать, выходит из своей ложи во время спектакля-гала, чтобы посетить фойе, где он на несколько минут смешивается с прочими зрителями. Толпа чувствовала между собой и г-жой Сван преграды богатства, самые непреодолимые в ее глазах. Свои преграды есть и у Сен-Жерменского предместья, но они менее поражают взгляд и воображение «голодранцев». В присутствии великосветской дамы, у которой больше простоты, которую легче принять за какую-нибудь мещаночку и которая ближе к народу, они не в такой степени ощущают свое неравенство, не чувствуют себя такими недостойными, почти что заслуживающими презрения, как в присутствии какой-нибудь мадам Сван. Конечно, блеск, окружающий этих женщин, их самих не ослепляет, как этих «голодранцев», они уже не обращают на него внимания, но объясняется это тем, что они к нему привыкли, то есть начинают в конце концов считать его как нельзя более естественным и необходимым и судить обо всех прочих лишь по степени их посвященности или непосвященности в эти привычки роскоши; таким образом (поскольку великолепие, которым они блещут и которое открывают в других, совершенно материально, легко может быть отмечено, приобретается не сразу, возмещается с трудом), если эти женщины относят встретившегося им прохожего на самую низшую ступень, то и он совершенно так же, то есть непосредственно, с первого же взгляда, безоговорочно ставит их на высшую ступень. Может быть, этот особый класс общества, к которому принадлежали тогда женщины вроде лэди Израэльс, уже проникшей в аристократические круги, и г-жа Сван, которой со временем предстояло познакомиться с ними, этот промежуточный класс, стоявший ниже Сен-Жерменского предместья, потому что он заискивал перед ним, но выше всего того, что к Сен-Жерменскому предместью не относится, и который отличался тем, что, уже отойдя от мира богачей, он все еще был носителем богатства, но богатства, усвоившего гибкость, послушного художественному назначению, художественной идее, денег, которые можно перечеканить, поэтически изукрасить и которые умеют улыбаться, — может быть, этот класс теперь уже и не существует во всей полноте своего обаяния и характера. Впрочем, женщинам, принадлежавшим к нему, теперь недоставало бы главного условия их могущества, так как с возрастом они почти все утратили свою красоту. И с высоты, на которую возносило ее не только ее благородное богатство, но и торжествующий расцвет ее еще такой обольстительной летней зрелости, г-жа Сван, величественная, улыбающаяся, исполненная доброты, медленно шествуя по авеню Булонского Леса, подобно Гипатии, глядела на миры, кружившиеся у ее ног. Молодые люди, шедшие мимо, с боязнью смотрели на нее, не уверенные в том, достаточно ли их поверхностное знакомство с ней (тем более что, будучи едва только представлены Свану, они опасались, что он может их не узнать), чтобы позволить себе приветствовать ее поклоном. И не иначе как дрожа за последствия, они решались на этот поклон, задавая себе вопрос, не повлечет ли их дерзко вызывающий святотатственный жест, посягающий на нерушимое главенство касты, целую цепь катастроф и не обрушит ли он на них кару какого-нибудь бога? Но он вызывал только, как часовой механизм, жестикуляцию кланяющихся человечков, являвшихся не чем иным, как свитою Одетты, начиная Сваном, который приподнимал свой цилиндр с зеленой кожаной подкладкой, благосклонно улыбаясь, чему он научился в Сен-Жерменском предместье, но уже без того равнодушия, которое раньше примешивалось к этой улыбке. Оно теперь сменилось (как будто он в известной мере проникся предрассудками Одетты) и досадой на то, что ему приходится отвечать на поклон человека, недостаточно хорошо одетого, и удовлетворением от того, что у жены его столько знакомых, — чувством смешанным, которым он в таких выражениях делился с блестящими друзьями, сопровождавшими ее: «Еще один! Честное слово, я задаю себе вопрос, где Одетта взяла всю эту публику!» А в это время, ответив кивком головы взволнованному прохожему, уже скрывшемуся из виду, но все еще ощущавшему сердцебиение, г-жа Сван обращалась ко мне. «Итак, — говорила она мне, — все кончено? Вы больше никогда не придете к Жильберте? Я рада, что для меня вы делаете исключение и что вы не совсем забросили меня. Мне приятно вас видеть, но мне нравилось также и ваше влияние на мою дочь. Мне кажется, что и она очень жалеет. Ну, не буду вас неволить, а то вы и со мной не захотите больше видеться!» — «Одетта, Саган здоровается с вами», — замечал жене Сван. И в самом деле, князь, словно в великолепном театральном или цирковом апофеозе или как персонаж старинной картины, ставил своего коня во фрунт и кланялся Одетте, подчеркивая этим широким жестом, театральным и как будто аллегорическим, всю рыцарственную учтивость вельможи, выражающего свое почтение женщине, хотя бы она была воплощена в такой женщине, которую не могли бы посетить его мать и сестра. Впрочем, г-же Сван, узнавая ее в прозрачной и сверкающей, как лак, тени ее зонта, каждую минуту кланялись последние из запоздалых всадников, мчавшихся галопом, словно в кинематографической ленте, по солнечной белизне авеню, разные члены клуба, имена которых, знаменитые у публики — Антуан де Кастеллан, Адальбер де Монморанси и столько других, — были для г-жи Сван привычными именами друзей. А так как для воспоминаний о чувствах поэтических средняя длительность жизни — относительная долговечность, — гораздо больше, чем для воспоминаний о страданиях сердца, то, когда уже давно замерли во мне огорчения, причиной которых была Жильберта, их пережило удовольствие, которое я испытываю каждый раз, когда в мае-месяце по своего рода солнечным часам слежу минуты, отделяющие четверть первого от часа, и вижу себя вновь беседующим с г-жой Сван в тени ее зонтика, словно в беседке из глициний.
Часть вторая
ИМЕНА МЕСТНОСТЕЙ: МЕСТНОСТЬ
Я был уже почти совершенно равнодушен к Жильберте, когда, два года спустя, мы с бабушкой поехали в Бальбек. Когда меня пленяло новое лицо, когда я надеялся, что какая-то другая девушка будет со мною вместе осматривать готические соборы, дворцы и сады Италии, я с грустью говорил себе, что наша любовь, поскольку она связана с определенным человеком, есть, пожалуй, нечто не вполне реальное, ибо если приятные или мучительные мечты и могут некоторое время ассоциировать ее с тою или иной женщиной настолько, что заставляют нас думать, будто она неизбежно внушила нам эту любовь, зато, когда мы сознательно или невольно для себя отрешаемся от этих ассоциаций, эта любовь, точно она, напротив, есть что-то произвольное и исходящее только от нас, воскресает для того, чтобы перенестись на другую женщину. Всё же в момент отъезда в Бальбек и первое время пребывания там равнодушие мое было еще неустойчиво. Часто (ведь наша жизнь протекает не хронологически, и в череду дней вторгается столько анахронизмов!) случалось мне переживать не вчерашний день, а один из тех более давних, когда я любил Жильберту. Тогда мне вдруг становилось больно оттого, что я ее не вижу, как если бы это было в те прежние годы. Мое «я», которое любило ее, а теперь почти целиком сменилось другим «я», возникало вновь, и ничтожный повод возвращал меня к нему гораздо чаще, чем повод значительный. Например, забегая вперед и уже касаясь моего пребывания в Нормандии: я раз услышал в Бальбеке, как незнакомец, с которым я повстречался на дамбе, сказал: «Семейство директора канцелярии Министерства почт». Казалось бы (так как я тогда еще не знал, какое влияние будет иметь на мою жизнь это семейство), эти слова должны были показаться мне праздными, а между тем они причинили мне острую боль — боль, которую ощущало от разлуки с Жильбертой мое прежнее «я», уже давно переставшее существовать во всей своей полноте. Дело в том, что я никогда не вспоминал об одном разговоре Жильберты и Свана, происходившем при мне и касавшемся семейства «директора канцелярии Министерства почт». А воспоминания любви не являются нарушением общих законов памяти, которые сами подвластны еще более общим законам привычки. Так как всё ослабляется ею, то наилучшим напоминанием о человеке служит нам как раз то, что мы позабыли (ибо оно было незначительно и, позабытое, осталось для нас во всей своей силе). Вот почему лучшее, что есть в нашей памяти, находится вне нас, в дуновении влажного ветра, в затхлом запахе комнаты или в запахе впервые затопленного камина — всюду, где мы обретаем часть самих себя, ту часть, которой наше сознание, не прибегавшее к ней, пренебрегло, последний остаток прошлого, самый лучший, который, когда все слезы, казалось, уже выплаканы, умеет вновь источить их у нас. Вне нас? В нас самих, правильнее будет сказать, но скрытый от наших взоров, погруженный в забвение, более или менее долгое. Только благодаря этому забвению мы вновь, время от времени, можем обретать то существо, которым были прежде, глядеть на мир его глазами, снова страдать, потому что мы уже перестали быть собою, но стали им, потому что оно любило то, к чему мы теперь равнодушны. В ярком свете привычной памяти образы прошлого мало-помалу тускнеют, стираются, от них ничего не остается, мы их больше не найдем. Или, вернее, мы не могли бы их больше найти, если бы какое-нибудь сочетание слов (например, «управляющий канцелярией Министерства почт») не было тщательно спрятано в забвении, подобно тому как в Национальную библиотеку сдают экземпляр книги, которой иначе нельзя было бы найти.