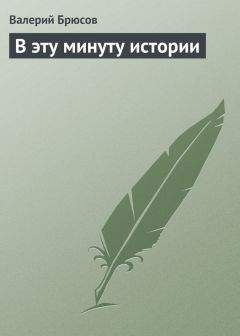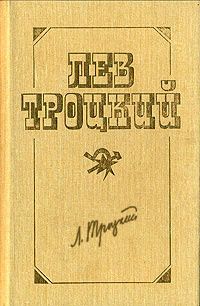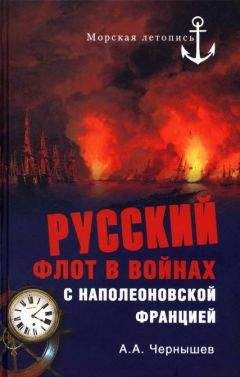Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
— Не чувствуете ли вы чего-нибудь, когда ваш взгляд тонет в этом блеске?
— Да, — ответил Фердинанд, — это сияние проникает мне прямо в душу, я готов сказать, что мое истомившееся сердце принимает его, как поцелуй.
— Да, это так! — сказал старик. — А теперь пусть ваши глаза перестанут блуждать, устремите их на это золотое сияние и старайтесь представить себе, как можно живее, вашу возлюбленную.
Оба спокойно сидели некоторое время, сосредоточенно глядя на сверкающий кубок. Но скоро старик молча, сначала медленно, затем все быстрее и, наконец, с необыкновенным проворством, стал равномерно поводить рукой вокруг горевшего, как жар, бокала, слегка касаясь его пальцем. Затем он остановился и начал описывать круги в обратную сторону. Спустя немного Фердинанду почудилась музыка, но, казалось, она звучала где-то в стороне, на далекой улице; скоро, однако, звуки приблизились, они становились слышнее и слышнее, они отчетливее раздавались в воздухе и, наконец, у него не осталось никаких сомнений в том, что они лились изнутри кубка. Все больше и больше крепли звуки, набираясь такой силы, что сердце юноши трепетало, а к глазам подступали слезы. Рука старика носилась в разных направлениях над отверстием кубка, и казалось, будто искры, сверкая, сыплются из его пальцев и, светясь и звеня, разлетаются, ударяясь о золото. Скоро число блестящих точек увеличилось, и они, словно нанизанные на нитку, следовали туда и сюда за движением его пальцев; они переливались различными цветами и жались теснее друг к другу, сомкнувшись, наконец, в непрерывные линии. Теперь казалось, будто старик в красноватом сумраке простирал над светящимся золотом чудесную сеть, потому что он влек лучи произвольно, то в ту, то в эту сторону, и старался заткать ими отверстие бокала; они повиновались ему и оставались лежать, наподобие покрова, но местами видно было, как они, колеблясь, ткутся сами собой. И когда они таким образом были связаны, он снова описал над краем круг, музыка отступила, становясь все тигле и тише, пока ее совсем не стало слышно, а светящаяся сеть дрожала, словно в испуге. Она распалась от все усиливавшегося дрожания, и лучи каплями стали падать в чашу, но над упавшими собиралось нечто вроде красноватого облачка, которое двигалось вокруг своей оси по разнообразным кругам и реяло над чашей, подобно пене. Но вот одна точка поярче пронеслась с огромной быстротой сквозь облачный круг. Тут стало возникать видение — словно чей-то глаз выглянул вдруг из прозрачной дымки, словно чьи-то золотые локоны ниспадали, завиваясь кверху кольцами, и тотчас на колеблющейся тени стал проступать нежный румянец, и Фердинанд узнал улыбающееся лицо своей возлюбленной, ее синие глаза, нежные щеки, милые красные губы. Голова еще неуверенно покачивалась, затем обозначилась яснее и отчетливее на гибкой белой шее, склонившись к восхищенному юноше. А старик продолжал описывать круги над кубком, и из него выступили ослепительные плечи, а по мере того как милый образ, покачиваясь с пленительной грацией, все выше поднимался с золотого ложа, стали постатейно показываться две изящно округленных и разделенных груди, посреди которых мерцали в красноватой дымке два нежнейших розовых бутона. Фердинанду казалось, что он чувствует дыхание возлюбленной, когда ее лик, зыбясь, наклонился к нему и почти касался его пылающими устами; в жару, в упоении он перестал владеть собой, рванулся к губам, и мнилось ему — вот он схватит сейчас красивые руки, чтобы освободить нагое видение из его золотой тюрьмы. И тотчас сильная дрожь пробежала по лицу возлюбленной, голова и тело распались на тысячи линий, и возле бокала оказалась роза, сквозь алость которой, чудилось, еще проступала нежная улыбка. Фердинанд нетерпеливо и жадно схватил розу, прижал к губам, и она увяла под его жгучим лобзанием и расплылась в воздухе.
— Ты плохо держишь свое слово, — сказал с досадой старик, — пеняй же на себя самого. — Он снова закутал свой бокал, отдернул гардины и отворил окно; яркий дневной свет ворвался в комнату, и опечаленный Фердинанд с тысячью извинений оставил ворчливого старика.
Взволнованный, он побежал по улицам города. За воротами он сел под деревьями. Утром она ему сказала, что к концу дня отправится с несколькими родственниками за город. Опьяненный страстью, он то садился, то вскакивал и бродил по роще; ему все чудился тот грациозный образ, что, струясь, выплывал из пламеневшего золота; он ждал — вот она сейчас выступит во всем блеске своей красоты, и вдруг прекрасная форма гибла на его глазах, и он сердился на себя, что благодаря неистовой страсти и смятению чувств уничтожил видение, а с ним, быть может, и свое счастье.
После полудня, когда место для гулянья стало постепенно наполняться людьми, он забрался глубже в кустарник, но ни на одно мгновение не терял из виду далеко протянувшуюся дорогу, внимательно вглядываясь в каждый экипаж, выезжавший из ворот.
Приближался вечер. Заходящее солнце бросало красноватый отблеск, и тут он увидел, что из городских ворот несется богатая золоченая карета, ярко сверкавшая на вечернем солнце. Он побежал к дороге. Ее глаза уже искали его. Приветливо улыбаясь, она высовывалась по грудь из кареты, он поймал на лету ее полный любви привет; вот уже карета поравнялась с ним, ее открытый взгляд упал на него, и, проносясь мимо, она бросила к его ногам розу, красовавшуюся на ее груди. Он поднял ее и поцеловал с таким чувством, словно этот цветок предсказывал, что ему уже никогда не видеть своей возлюбленной и что его счастье навеки разбито.
Вверх и вниз по лестницам бегали люди, весь дом был в движении, все кричали и шумели, готовясь к завтрашнему торжеству. Всех усерднее и приветливее была мать; невеста ни во что не входила и, задумавшись над своей судьбой, удалилась к себе в комнату. В доме ожидали еще сына, капитана, с его женой и двух старших дочерей с мужьями; Леопольд, младший сын, с беспечной веселостью занимался тем, что всюду увеличивал беспорядок и суматоху, принимаясь за множество дел сразу. Агата, его незамужняя сестра, старалась его образумить и уговорить, чтобы он ни о чем не беспокоился, а оставил бы других в покое; но мать сказала:
— Не мешай его дурачествам, потому что сегодня все это не в счет; об одном прошу вас всех, чтобы вы, раз у меня и без того столько забот, не докучали мне тем, без чего я могу превосходно обойтись; если разобьют что-либо из фарфора, или пропадет несколько серебряных ложек, или слуги приезжих высадят где-нибудь стекло, то вы не досаждайте мне рассказами о таких пустяках. А когда вся эта суматоха кончится, тогда мы все сочтем.
— Правильно, матушка! — сказал Леопольд; — вот образ мыслей, достойный регента! И если кто-либо из служанок сломает себе шею, повар напьется пьян и у него загорится дымовая труба, а дворецкий на радостях упустит мальвазию из бочки или допустит, чтобы ее вылакали, то о подобных проказах вы ничего не узнаете. Вот разве только землетрясение разрушит дом; милая, этого уж никак не скроешь.
— Когда только он поумнеет? — сказала мать. — Что подумают о тебе брат и сестры, когда они увидят, что ты все такой же безрассудный, каким они тебя покинули два года назад?
— Они отдадут должное моему характеру, — ответил живой юноша, — за то, что он устойчивее, чем у них или у их мужей, которые в короткий срок так резко и совсем не в свою пользу переменились.
Тут вошел жених и осведомился о невесте. За ней послали горничную.
— Передал ли вам Леопольд, милая матушка, мою просьбу? — спросил нареченный.
— Да я и не помню, — отвечала она, — в этом беспорядке и с мыслями собраться некогда.
Вошла невеста, и нареченные радостно приветствовали друг друга.
— Просьба, о которой я упомянул, — продолжал жених, — состоит в следующем: вы не рассердитесь, если я приведу еще одного гостя в ваш дом, который эти дни и без того переполнен?
— Вы сами знаете, — сказала мать, — что, как он ни обширен, было бы трудно сейчас приготовить еще одну комнату.
— А я, — крикнул Леопольд, — отчасти уже позаботился об этом; я велел прибрать большую комнату в задней пристройке.
— Ах, да она недостаточно хороша, — сказала мать, — уже многие годы она служит почти что чуланом.
— Она великолепно реставрирована, — сказал Леопольд, — а друг, для которого она предназначается, не взыщет, ему важна лишь наша любовь; жены у него нет, он охотно проводит время в одиночестве, и она ему как раз подойдет. Нам стоило большого труда уговорить его и снова ввести в общество людей.
— Надеюсь, это не тот ваш мрачный алхимик и заклинатель духов? — спросила Агата.
— Именно он, — ответил: жених, — если вам угодно называть его так.
— В таком случае, не разрешайте, матушка, — продолжала сестра. — Что надобно такому человеку в нашем доме? Я не раз видела его с Леопольдом на улице, на него глядеть невозможно без страха; притом старый грешник почти не бывает в церкви, он не любит ни бога, ни людей, и появление этого безбожника в доме в такой торжественный час может навлечь на нас беду. Кто знает, что из этого может выйти?
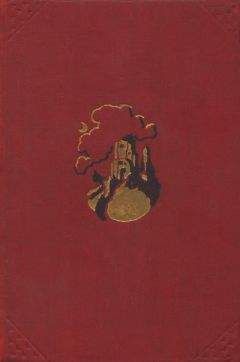
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)