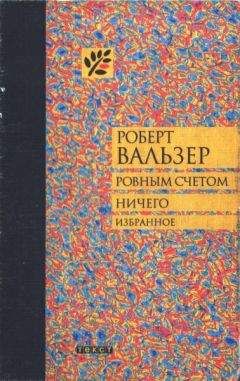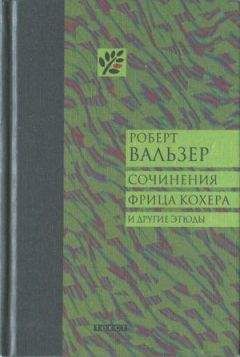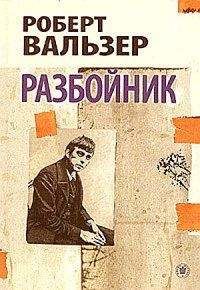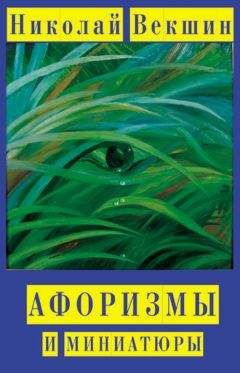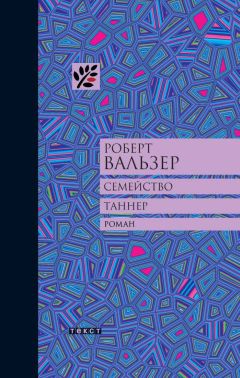Роберт Вальзер - Помощник. Якоб фон Гунтен. Миниатюры
Собственно, дел у нас, учеников или воспитанников, крайне мало, заданий нам почти не дают. Мы только учим наизусть правила внутреннего распорядка. Или читаем книгу «Какую цель ставит перед собой школа для мальчиков Беньяменты?». Краус, кроме того, учит французский, самостоятельно, потому что ни иностранных языков, ни чего-либо подобного в нашей учебной программе нет. Урок у нас один-единственный, и он повторяется бесконечно. «Как должен вести себя мальчик?» Вот вокруг этого и вращается, в сущности, вся учеба. Знаний нам не дают никаких. Учителей, как я уже отмечал, не хватает, то есть господа воспитатели и педагоги спят или умерли, или делают вид, что умерли, или окаменели, или еще что-то, но, во всяком случае, мы их не видим. Вместо учителей, почивших или по какой-то странной причине сделавших вид, что почили, нам преподает и нами управляет молодая дама, сестра директора пансиона, фройляйн Лиза Беньямента. На уроки в класс она приходит с маленькой белой указкой. Мы встаем, когда она входит. Садимся после того, как сядет она. Коротко, властно она трижды ударяет указкой по краю стола, и урок начинается. Что за урок! Но я бы солгал, если б назвал смешным то, чему она нас учит. Нет, фройляйн Беньямента скорее трогательна в своих наставлениях. Их немного, мы повторяем одно и то же, но вполне вероятно, что за всеми этими смешными, ничего не значащими пустяками кроется своя тайна. Да и смешны ли они? Во всяком случае, нам, мальчикам из пансиона Беньяменты, весело не бывает. И лица, и повадки наши очень серьезны. Даже Жилинский, хоть и совсем еще ребенок, смеется очень редко. Краус не смеется никогда, а если уж и не удержится иной раз, то быстро прекращает смех и потом сердится на себя за то, что впал в предосудительный тон. В целом мы, ученики, смеемся мало, то есть нам не до смеха. В нас нет ни требуемой для смеха раскованности, ни веселия духа. Или я заблуждаюсь? Господи, иной раз все мое пребывание здесь представляется мне сном самым престранным.
Моложе и меньше всех нас, воспитанников, Генрих. К этому юному существу неизбежно относишься с нежностью, причем без всяких задних мыслей. Как он затихает перед витринами купеческих лавок, самозабвенно разглядывая лакомства и товары! Потом обычно входит и покупает себе на семишник какие-нибудь сласти. Генрих совсем еще дитя, но он говорит и ведет себя как взрослый с хорошими манерами. Волосы его всегда безупречно причесаны на ровный пробор, что особенно вызывает мое восхищение, потому что сам я в этом важном пункте выгляжу неблестяще. Щебечет он, как нежная птичка. Рука так и просится к нему на плечо, когда разговариваешь или выходишь с ним на прогулку. У него осанка полковника при маленьком росте. Наверняка он ни разу еще не задумывался о жизни, да и зачем? Он очень благовоспитан, услужлив и вежлив, но всего этого не осознает. Да, он как птичка. Кроткий нрав его виден во всем. Только птичка могла бы так давать руку, если б умела, так ходить, так стоять. Все в Генрихе невинно, счастливо, безмятежно. Он, по его словам, хочет быть пажем. Говорит он об этом без какой-либо пошлой ухмылки, и в самом деле ему бы больше всего подошла роль пажа. Изящные чувства и манеры ведь должны к чему-то стремиться и, гляди-ка, у них есть точная цель. Что сделает с таким мальчиком опыт жизни? Осмелится ли умудренный опыт вообще приблизиться к нему? Не стушуются ли грубые разочарования перед лицом столь чуткой невинности? Впрочем, я замечаю, что он несколько холоден, сдержан, никаких порывов его душа не знает. Может статься, что он и не заметит многое из того, что могло бы его уничтожить, не почувствует многое из того, что могло бы развеять его беззаботность. Прав ли я? Кто знает… Но я очень, очень люблю предаваться таким наблюдениям. Способности к пониманию у Генриха не безграничны. В этом его счастье, которое надо лелеять. Если б он был принцем, я бы первым склонил перед ним колена и признал его власть. Жаль, что это не так.
Как глупо я себя вел, когда сюда прибыл. Больше всего меня возмутила лестница в подъезде. Хотя, в общем, лестница как лестница, на городских задворках всюду такие. Потом я позвонил, и какое-то обезьяноподобное существо открыло мне дверь. То был Краус. Но тогда я попросту принял его за обезьяну, я ведь не знал еще его выдающихся личных качеств, за которые теперь высоко его ставлю. Я спросил, могу ли я видеть господина Беньяменту. «Всенепременно, сударь», — сказал Краус и отвесил мне низкий, дурацкий поклон. Этот поклон страшно напугал меня, потому что я сразу подумал, что тут что-то нечисто. И с этого момента я стал считать школу Беньяменты надувательством чистой воды. Я вошел в кабинет директора. По сей день смех разбирает меня, как вспомню о том, что затем было! Господин Беньямента спросил, что мне угодно. Я, робея, объяснил, что хочу у него учиться. Он замолчал и погрузился в чтение газет. Бюро, за которым сидел господин директор, он сам, вышедшая мне навстречу обезьяна, дверь, которую она открыла, вот эта манера молчать, изучая газеты, — все это показалось мне в высшей степени подозрительным и сулящим погибель. Внезапно меня спросили о том, как меня зовут и откуда я родом. Я чувствовал, что погиб, потому что вдруг понял, что мне не выбраться отсюда. Заикаясь, ответил на поставленные вопросы, и даже осмелился подчеркнуть, что происхожу из очень хорошей семьи. Среди прочего я сказал, что отец мой — тайный советник и что я убежал из дома, опасаясь быть раздавленным его авторитетом. Директор опять помолчал. Я все больше проникался страхом, что меня обманут. Подумывал уже было о том, что, наверно, тайно прикончат, расчленят на кусочки. Тут директор спросил своим начальственным басом, есть ли у меня деньги, и я ответил, что есть. «Давай их сюда. Живо!» — приказал он, и я, как ни странно, сразу же повиновался, трепеща от ужаса. Я уже не сомневался, что попал в руки разбойника и обманщика, но, несмотря на это, покорно выложил на стол плату за учение. Как смешны мне теперь тогдашние ощущения! Деньги со стола словно ветром сдуло, и снова воцарилось молчание. Тогда я, набравшись геройской храбрости, попросил дать мне расписку и получил в ответ: «Шкетам вроде тебя расписок не выдают». Я был близок к обмороку, директор позвонил. И тут же ввалилась эта глупая обезьяна, Краус. Глупая обезьяна? Вовсе нет. Краус очень милый, приятный человек. Только тогда я не мог этого понять. «Вот это Якоб, новый ученик. Отведи его в класс». Не успел директор произнести эти слова, как Краус уже схватил меня за руку и поволок к учительнице. Какой ты, выходит, еще ребенок, коли боишься. Хуже всего ведет себя человек, когда он во власти недоверия и незнания. Так я стал воспитанником.
Шахт, мой соученик, человек удивительный. Он мечтает стать музыкантом. Говорит, что сила воображения помогает ему чудесно играть на скрипке, и глядя на его руки, я ему верю. Он охотно смеется, но потом вдруг конфузится и погружается в умильную меланхолию, необыкновенно преображающую и лицо его, и позу. У Шахта необычайно белое лицо и длинные тонкие руки, которые выдают его безмерные душевные страдания. Сложения самого тщедушного, он часто слегка подергивается, ему трудно сидеть или стоять спокойно. Он похож на капризную, взбалмошную девочку, чуть что надувает губы, как какая-нибудь кисейная барышня. Мы с ним любим поваляться у меня на кровати, не раздеваясь, не снимая ботинок, с сигаретой во рту, что, разумеется, против правил. Шахт — большой охотник нарушать предписания, и я, по правде сказать, ему в этом, к сожалению, не уступаю. В такие минуты мы рассказываем друг другу всякие небылицы. Какие-нибудь случаи из жизни, то есть, конечно, из прошлого, а еще чаще выдумываем что-нибудь и вовсе несусветное. И тогда вокруг нас словно начинает звучать музыка, стены раздаются, в тесной и темной каморке вдруг появляются улицы, залы, дворцы, города, незнакомые люди и картины природы, грохочет гром, шелестят листья, кто-то смеется и плачет, и так далее. Но болтать с мечтателем Шахтом бывает занятно. Он все понимает, что ему ни скажи, и сам иной раз говорит умные вещи. И потом он часто жалуется, а я люблю, когда жалуются. Глядя на такого человека, можно почувствовать к нему глубокое сострадание, а в Шахте есть что-то, вызывающее сострадание, даже если он не говорит о печальном. Если благородное недовольство, то есть тоска по прекрасному и возвышенному, нуждается в каком-то пристанище, то в Шахте она нашла его себе в полной мере. У Шахта есть душа. Может, он художник по натуре, как знать. Он мне признался, что болен, и поскольку недомогание его не совсем приличного свойства, настоятельно просил меня молчать об этом, в чем я, конечно, поклялся, чтобы его успокоить. Потом я попросил показать мне его болячку, но тут он вдруг рассердился и отвернулся к стене. «Бесстыжий ты», — сказал он мне. Часто мы подолгу лежим, не говоря ни слова. Однажды я попытался потихоньку взять его руку, но он возмутился: «Ну что еще за глупости? Оставь». Шахт предпочитает общаться со мной, я, правда, не совсем в этом уверен, но в таких вещах это и не нужно. Сам я страшно привязан к нему, просто считаю его подарком судьбы. Разумеется, этого я ему не говорю. Разговариваем мы о пустяках, иной раз и о серьезных вещах, но высоких слов избегаем. В красивых словах столько скуки! Так вот проводя время с Шахтом в комнате, я понял, что мы, ученики школы Беньяменты, приговорены к удивительному, иной раз по целым дням тянувшемуся безделью. Все-то мы лежим, стоим, слоняемся, либо занимаемся бог весть чем. Ради удовольствия мы с Шахтом иногда зажигаем в комнате свечи, что строжайше запрещено. Но именно поэтому нас так и подмывает сделать наоборот. Бог с ними, с предписаниями: свечи горят так таинственно, так красиво. А как выглядит лицо моего товарища, освещенное нежным красноватым пламенем! Когда я вижу зажженные свечи, я кажусь себе самостоятельным человеком. Вот сейчас непременно подойдет слуга и протянет мне шубу. Все это глупость, конечно, но у этой глупости красивая улыбка. У Шахта, собственно, грубоватые черты лица, но бледность, разлитая по всему лицу, скрашивает их. Нос слишком большой, и уши тоже. Губ почти не видно. Иногда, когда я разглядываю Шахта, мне кажется, что этому человеку предстоит ужасная жизнь. Как я люблю людей, которые вызывают во мне щемящее чувство сострадания! Это и есть братская любовь? Может быть.