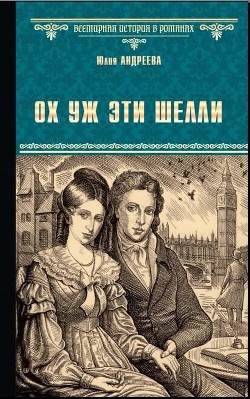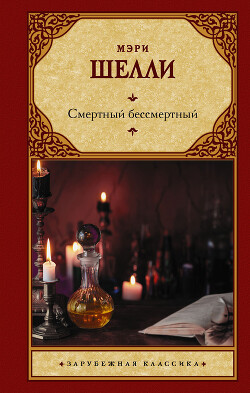Фолкнер - Шелли Мэри
Я не стал его расспрашивать, хотя не знал, куда предстоит поехать; я вышел из кабинета молча и направился в тюремный двор, который у нас назывался игровой площадкой, но мне сообщили, что у дверей меня ждет фаэтон, запряженный пони. Сердце мое возликовало; я решил, что транспорт поможет мне бежать и преодолеть хотя бы первый отрезок пути. Запряженная пони коляска была самой непритязательной из всех, что мне приходилось видеть; на козлах сидел старик. Я залез внутрь, и мы ускакали прочь; маленький валлийский пони оказался куда быстрее, чем можно было подумать, глядя на него. Кучер был глухим, я сидел насупившись, и по пути мы не обменялись ни словом. Я планировал доехать с ним туда, куда он должен был меня отвезти, а в конечном пункте выскочить и удрать. Но по дороге мой бунтарский дух несколько охладел. Мы выехали из города, где находилась школа и я привык гулять в сопровождении наставников по унылым пыльным дорогам. Теперь мы ехали по тенистым аллеям и прохладным рощам; нашим взглядам открывались бескрайние панорамы и извилистые романтические ручьи; будто мрачный занавес отдернулся и природа предстала передо мной во всей красе; я смотрел на нее новыми глазами, видел, как вокруг раскинулась свободная, просторная земля, и душа моя ликовала. Сначала это лишь укрепило мою решимость бежать, но постепенно в сердце зародилось другое неопределенное чувство. Жаворонки взметнулись в небеса; ласточки парили низко над зелеными полями, и я чувствовал себя счастливым, потому что веселилась природа, все дышало свободой и безмятежностью. С аллеи, усаженной душистой жимолостью, мы свернули в лесок; густой невысокий кустарник перемежался мхами и цветущими полянами. Мы выехали из леса, и я увидел ограду, скромные деревянные ворота и дом, увитый жасмином и плющом; тот стоял в уединении меж нависших над ним деревьев, но все же хорошо просматривался в зарослях. Ворота нам открыл крестьянский мальчик; мы подъехали к самому порогу.
У низкого окна, выходящего на лужайку, в большом кресле сидела дама; по ее виду становилось ясно, что она больна, но было в ней что-то столь нежное и неземное, что притягивало и радовало взгляд. Кожа казалась почти белой, волосы поседели, но сделались не грязно-серого цвета, а шелковисто-серебряного; на ней было белое платье, и несмотря на несколько увядший вид, серые глаза живо блестели, а уста украшала самая прекрасная в мире улыбка. Улыбаясь, она поднялась с кресла, обняла меня и воскликнула: „Я сразу догадалась, что это ты, милый Руперт; ты так похож на мать!“
Само это имя задело струны, которые много лет оставались нетронутыми. Рупертом называла меня мать; бывало, отец в редкие минуты тоже, когда в нем пробуждалась теплота, хотя чаще он звал меня „Вы, сэр!“ или даже „Ты, пес!“. Дядя — я носил и его имя, Джон, — предпочел избавиться от моего первого имени, которое считал глупым и сентиментальным; в своем доме и в письмах он всегда называл меня Джоном. Услышав же имя Руперт, я вспомнил милый дом и материнские поцелуи; я вопросительно взглянул на ту, что назвала меня этим именем, и тут мое внимание привлекла — нет, пленила — прелестная девочка, выскользнувшая из соседней комнаты и вставшая рядом с нами, лучась юностью и красотой. Она была необыкновенно хороша собой и наделена всеми дарами юности; ее красоту оттенял контраст с бледной дамой, рядом с которой она стояла: райская дева и бесплотный дух. Глаза ее были черными, большими и нежными; они искрились блеском, но обладали глубиной, свидетельствовавшей о том, что внутри обитала тонкая душа; поистине она напоминала ангела или фею, а ее кожа и фигура говорили о здоровье и благополучии. Что же это значило? Кем была эта девочка? И откуда им было известно мое имя? Я не знал, но чувствовал, что эта тайна сулит мне много хорошего — мне, к которому жизнь до сих пор была немилосердна и кто желал любви, „как лань желает к потокам воды“» [21].
Глава XXVII
«Последовало объяснение, и я понял, кем были мои новые друзья. Дама оказалась дальней родственницей моей матери, они вместе воспитывались и разлучились, лишь когда вышли замуж. Из-за того, что моя мать умерла, я и не догадывался о существовании этой родственницы, хотя та проявляла живейший интерес к сыну подруги детства. Миссис Риверс жила беднее матери и долгое время считала, что ее подруга вращается в высших кругах общества; сама она вышла за лейтенанта флота и, пока тот пропадал в плаваниях и исполнял свой долг, жила уединенно и небогато в деревенском одноэтажном домике, небольшом, но живописном и тихом. Я и сейчас вижу перед собой увитые зеленью окна и цветущую лужайку — картину, внушающую покой. Вспоминая об этом безмятежном пристанище, я всякий раз думаю о словах поэта:
Для всякого, кто чувствует и ценит особую прелесть английской природы и знает, сколько изящества, счастья и мудрости таят в себе стены скромного деревенского дома, эти строки, как и для меня, обладают особым звучанием и несмотря на всю свою непритязательность, воплощают саму суть счастья. В этом оплетенном лозами пристанище в уединенном уголке букового леса, рядом с которым журчал прозрачный ручей, чьи берега густо поросли благоуханной жимолостью, обитало нечто более прекрасное, чем все эти природные дары, — ангел в райских кущах, каким мне показалась с первого взгляда единственная дочь миссис Риверс.
Алитея Риверс — в самом этом имени заключена симфония, улыбки и слезы; в нем кроется целая счастливая жизнь и моменты величайшего блаженства. Ее красота ослепляла; в темных восточных глазах, прикрытых испещренными сеточкой вен нежными веками с темной бахромой ресниц, теплилось трепетное пламя, проникавшее в самую глубину души. Лицо имело форму безупречного овала, а уста складывались в тысячу лучезарных улыбок или были безмолвно приоткрыты и готовы изречь самые нежные и поэтичные слова, которые ты жаждал услышать. Лоб, ясный, как день, лебединая шея и симметричная фигура, тонкая, как у феи, — все в ней свидетельствовало о безупречности, к которой не остался бы нечувствительным даже самый юный и невосприимчивый.
Она обладала двумя качествами, которых я даже по отдельности ни в ком не встречал проявленными в таком развитии, в ней же они складывались в совершенно неотразимое сочетание. Она чрезвычайно остро переживала собственные радости и горести и живо реагировала на те же чувства в окружающих. Я сам наблюдал, как переживания интересного ей человека всецело поглощали ее душу и сердце и все ее существо окрашивалось в чужое настроение; даже цвет и черты лица менялись, подстраиваясь под другого. Ее нрав всегда оставался невозмутимым; она не была способна злиться, а несправедливость вызывала у нее лишь глубокую скорбь; что она умела, так это радоваться, и я ни у кого не видел таких безоблачных проявлений счастья, когда сама душа сияет как солнце. Одним взглядом или словом она усмиряла жесточайшие сердца, а если сама ошибалась, искренне признавала свою ошибку, и не боялась выразить стыд и горе, если нанесла обиду, и всегда готова была загладить вину, отчего даже ее промахи оборачивались добродетелью. Она была весела, порой почти до безрассудства, но неизменно помнила об окружающих; ей была свойственна врожденная женская мягкость, из-за которой даже безудержное веселье звучало ликующей музыкой и откликалось в каждом сердце. Ее любили все и всё вокруг; мать ее боготворила, каждая птица в роще ее знала, и мне казалось, что даже цветы, за которыми она ухаживала, ощущали ее присутствие и радовались ему.
С самого рождения — или, по крайней мере, с того момента, когда в раннем детстве я лишился матери, — мой путь был колюч и тернист; розга и кулак, холодное пренебрежение, упреки и унизительное рабство были моими спутниками; я считал, что такова моя доля. Но во мне жили жажда любви и желание обладать тем, чья привязанность принадлежала бы только мне. В школе я обнаружил маленькое гнездо полевых мышей и стал за ними ухаживать, но из людей ни один не относился ко мне иначе как с отвращением, и мое гордое сердце негодовало. Миссис Риверс слышала печальную историю моего упрямства, лени и свирепости — и ожидала увидеть дикаря, но сходство с матерью тут же пленило ее сердце, а ласка, с которой она меня встретила, вмиг побудила меня вести себя более достойно. Мне твердили, что я негодяй, пока я сам наполовину в это не поверил. Мне казалось, что я воюю со своими угнетателями и должен заставить их страдать, как они заставляли меня. О милосердии я читал только в книгах, но оно представлялось мне просто частью огромной системы притеснения, в которой сильные угнетали слабых. Я не верил в существование любви и красоты, а если мое сердце и видело красоту, то лишь в природе, и та пробуждала во мне недоумение: я не понимал, почему все разумное и восприимчивое в удивительной ткани Вселенной подвержено боли и злу.