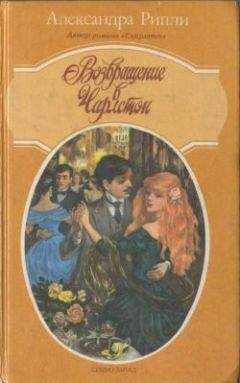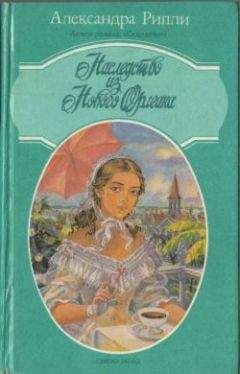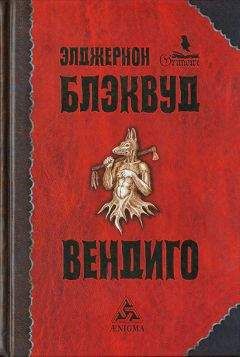Лоренс Даррел - Бальтазар
«Вечер. Вот то самое письмо, о котором я говорила, местами оно, может быть, резковато — что ж, не без того, но вполне в духе общего нашего друга. К выпадам в твою сторону постарайся отнестись не слишком всерьез. Он тобой восхищался и верил в тебя — он сам однажды мне это сказал. Может, врал по обыкновению. Ну, да все равно».
«Отель „Старый стервятник“,
Александрия.
Дорогая моя Клеа.
Какой сюрприз, какой восторг — придя домой, найти твое письмо. Замечательный ты мой читатель — ни хулы, ни хвалы (и то и другое — как наждаком по заднице), ты просто присутствуешь, внимательно и благосклонно, читаешь между строк — там, где, собственно, все и пишется! Я только что примчался из кафе «Аль Актар», где имел честь присутствовать при долгой и весьма глубокомысленной дискуссии «о романе» при участии: старика Личины, Китса и Помбаля. Они говорили так, как если бы каждый роман не был sui generis [96], — для меня в том не более смысла, чем в рассуждениях Помбаля о les femmes как об особой расе; честное слово, как школьники на пикнике — мальчики налево, девочки направо. Личина двинул свежую идею: мол, Искупление и Первородный Грех суть темы самые что ни на есть новые и оригинальные и что писатель сегодня… Брр! Я ретировался, почувствовав себя писателем откровенно позавчерашним и не желая споспешествовать им в изготовлении очередного пирога из глины пополам с дерьмом».
«Более чем уверен, старик Личина разродится в конце концов расчудесным романом о первородном грехе, и роман сей будет даже иметь, как я это про себя именую, „умеринный успех“ (всегда найдется парочка восторженных меринов, но доход от продаж все равно не покроет аванса). И знаешь, я так расчувствовался, представив себе его неминучую судьбу, что решил закатиться с горя в бордель и излить там свою первородную тоску в самой что ни на есть греховной форме. Вот только час был еще неурочный; к тому же день выдался жаркий, и от меня разило потом. Итак, я вернулся в гостиницу, чтобы принять душ и сменить сорочку, — и обнаружил твое письмо. Тут в бутылке осталось еще немного джина, и я подумал: черт его знает, куда меня сегодня занесет, так что сяду-ка я прямо сейчас и отвечу тебе по всей форме, пока еще не шесть часов и бордели все равно закрыты».
«Вопросы, которые ты ставишь передо мною, дорогая Клеа, — те самые вопросы, коими и сам я задаюсь. Я как раз собирался разобраться в них получше, прежде чем приниматься за последний том, которого главной целью почитаю — свести воедино, разрешить и гармонизировать все те узлы, что понавязал прежде. Хочу, чтобы в нем зазвучала нота… утверждения, — только не пойми сие как философский или богословский термин. Нужно поймать изгиб объятия, тот бессловесный шифр, на котором говорят любовники. И передать, оставить чувство, что мир наш основан на чем-то очень простом, из чего и смысла нет выводить космические законы, — но это „что-то“ так же просто уловить и понять, как, скажем, нежность, простую нежность изначальной связи — между животным и растением, дождем и почвой, семенами и деревьями, человеком и Богом. Связь эта так тонко соткана, что рвется мигом при одном лишь приближении „пытливого ума“ или conscience [97] во французском смысле слова, у коих, вне всякого сомнения, есть свои права и своя особая область жизнедеятельности. Я хотел бы думать о своей работе как о колыбели, в которой философия сама себя укачает и уснет, постепенно, с пальчиком во рту. Что ты на это скажешь? В конце концов, не этого нам в мире более всего недостает, но — только так все в мире происходит. Помолчи немного, и ты почувствуешь тихий ток нежности — не силы, не славы; и не Прощенья от Грехов, не Жалости, не Сострадания, этой выдумки вульгарного иудейского ума, только и способного представить человека корчащимся под кнутом. Нет, та нежность, что я имею в виду, совершенно безжалостна! «Закон, себе довлеющий», как принято у нас говорить. Конечно, всегда приходится помнить о том, что мысль изреченная есть ложь — наполовину. И все же в последней моей книге я должен доказать: для человека есть надежда, есть предел и есть свобода, в рамках простейшего закона; и мне кажется, человечество уже понемногу начинает примерять к себе необходимую информацию, путем не разума, нет, но просто внимания, что и позволит, может быть, когда-нибудь построить жизнь по новым меркам — вот воистину «радость без предела». Как может радость быть чем-то иным? Новое это существо, за которым мы, художники, как раз и охотимся, будет не столько даже «жить», сколько «протекать», как время. Черт, и трудно же говорить такие вещи! Может, ключик в смехе, в Веселом Боге? Ведь именно серьезные люди вечно норовят нарушить спокойствие духа своими ужимками — как Жюстин? (Погоди-ка. Пойду налью себе еще немного джина.)»
«Я думаю, нам лучше избегать больших таких, продолговато закругленных слов вроде „Красота“ или „Истина“ и т. п. Ты не против? Все мы рохли и недоумки, когда речь идет о том, как строить собственные жизни, но если нужно встать в позу и произнести что-нибудь этакое о бытии и вечности, тут каждый из нас гигант. Sufflaminandus erat. Как и тебе, мне не дают покоя две сплетенные в один клубок проблемы: мое творчество и моя жизнь. И выходит так, что в жизни я нерешителен и ни на что путное абсолютно не годен, в искусстве же другое дело, там я свободен быть таким, каким более всего хочу казаться, — человеком, способным даже в окружающий нас медленный вальс умирания привнести гармонию и чувство достоинства. В искусстве, точнее, посредством искусства я на самом-то деле хочу лишь добраться до самого себя, сбросив с себя под конец все свои творения, которые в действительности вовсе не важны, — как змея сбрасывает кожу. Может быть, именно по этой причине писатели хотят, чтобы их любили за книжки, а не за то, какие они есть на самом деле, — как ты думаешь? Но сие предполагает и иной тип женщины тоже. А где она?»
«Таковы, друг мой Клеа, некоторые из тех проблем, что смущают всезнающего друга твоего, строгий классический ум и романтическую душу
Людвига Персу ордена».«Уф, поздно уже, и масла в лампе осталось на донышке. Отложу-ка я на сегодня все письма в сторону. Завтра, если будет настроение после набега на местные лавчонки, напишу еще; если нет, значит, нет. Мудрая твоя голова, насколько было бы лучше, если бы мы могли поговорить. У меня внутри, кажется, уложены долгие беседы, упакованы и перевязаны бечевочкой — и пропадают зря. Это, наверно, единственный недостаток одиночества, который я покуда смогла обнаружить: не хватает друга, чужих глаз, мыслей — как зеркала, чтобы смотреть со стороны и отделять чушь от сути! Отшельник неизбежно становится автократом, сам себе диктатор, и его суждения волей-неволей приобретают вес ex cathedra [98]: и на работе это может сказаться далеко не лучшим образом. Утешает лишь то, что теперь мы с тобой два сапога пара, ты на острове — который по сути есть всего лишь метафора, как Декартова печка, не так ли? — и я в моей затерянной в горах избушке из волшебной сказки».
«На той неделе увидела среди деревьев молодого человека, тоже художника, и бедное мое сердечко забилось вдруг как-то непривычно быстро. Мне вдруг захотелось влюбиться — и резон, кажется, был такой: „Если ты уехала так далеко от мира и в диком этом месте встречаешь вдруг мужчину, не должно ли это означать, что самою судьбой он предназначен разделить твое одиночество, призванный сюда незримой волею безличной, вековой твоей тоски, не нарочно ли судьба тебе его вручает?“ Опасные шутки выкидывает порою сердце, мучимое вечной жаждой быть любимым; оно и самое себя обманет с радостью! Бальтазар однажды заявил, что может простейшими средствами вызывать в людях любовь, и даже предлагал эксперимент: только-то и нужно сказать каждому из двух никогда не встречавшихся ранее людей, что другой страстно жаждет видеть его, никогда не встречал никого столь безумно… и так далее. Способ этот, он клялся мне и божился, осечек не знал и знать не будет, он всегда срабатывает безотказно. Что ты на это скажешь?»
«Но я, знаешь ли, склонна к дурным предчувствиям; они-то и спасли меня от вышеупомянутого юноши, который, должна признать, был красив и весьма неглуп и как любовник скрасил бы мне, наверное, если и не жизнь, то хотя бы это лето. Но когда я увидела его картины, душа створожилась во мне, окаменела и тихо отошла в сторонку; я в них увидела его — насквозь, как графолог видит человека по почерку или физиогномист — по лицу. Я увидела слабость, и бедность духа, и вдобавок злую волю. И я сказала ему «прости» прямо там и тогда. Бедняга все бежал за мной и спрашивал без передышки: «Я чем-то тебя обидел, я что-то сказал не то?» Что я могла ему ответить — он с обидой этой ничего не мог поделать, кроме как изжить ее, изрисовать постепенно; но для этого нужно, чтобы он хотя бы понял, в чем дело».