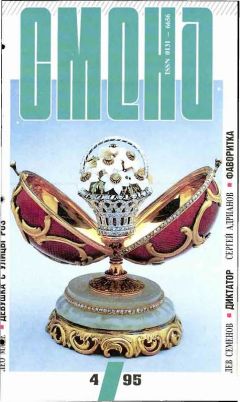Осип Сенковский - Игра в карты по–русски
Павла Петровна через туман шла к дверям, ни на кого не глядя: потому что знала, как она ходит, и знала — все не спускают с нее глаз.
А затем — вернулся Семен Семеныч; по плечу шлепал, как туфля, оторванный погон. Сзади шел заячелицый китаец с бутылками.
Всё гуще дым, всё быстрее голоса, лица, брови, седой венчик, карты, ямочки на щеках. Пол качается, как палуба, — однажды Семен Семеныч ходил на шкуне капитана Круга, и тогда была тоже Павла Петровна, и тогда это началось…
У Семена Семеныча — третий раз подряд черный, острый, ненавистный туз. Если б девятка — Боже мой, если б хоть восьмерка… Еще туз: два туза, двадцать два. Всё. Семен Семеныч умывается лапкой, покачивается. Всё, что принес с собой, и всё, что было взято у буфетчика…
— Да вы пересядьте, Семен Семеныч… — это, кажется, мичман, кажется, он подмигивает Кругу. Вы пересядьте с отцом Николаем и вот увидите: повезет! — ямочки подмигивают.
Трудно это — встать со стула. Но встал Семен Семеныч, и медленно плывет перед ним образ Николая Мирликийского в венчике.
— А не-ет! С переодеванием. Нельзя, нельзя! Семен Семеныч — в рясу! А то ишь ты! Не-ет!
Таков игрецкий обычай. И Николай Мирликийский — в офицерской тужурке с оторванным погоном, а Семен Семеныч — в рясе.
— Не сметь смеяться! Молокосос! Убью! — кричит Семен Семеныч мичману, весь трясется — а может быть, и не мичману это «убью». Нет, конечно, не мичману — и целуется с мичманом. — Господи, какие у него милые ямочки! — целуется с отцом Николаем.
Отца Николая сморило.
— Послушай, за-заюшка, ты меня разбуди через полчаса: у меня в четыре заутреня, — наказывает отец Николай китайцу. — Меня, по-па, па-ни-маешь?
Заплетается язык — и, должно быть, заплетаются руки: вместо своего кармана — Николай Мирликийский сунул под столом бумажки на колени Семену Семенычу. А может быть — вовсе не спьяну это отец Николай, и тут что-то другое.
Забыл Семен Семеныч, что он в рясе: будто не в рясе, а только что выбритый и в снежном, чуть прикрахмаленном кителе, как у мичмана, с ямочками, — крикнул Семен Семеныч:
— Карту!
— Карту? А чем отвечать будете?
Да, на столе перед Семен Семенычем — пусто. Но он берет с колен мирликийские бумажки и не глядя кидает их тому — Кругу.
— Тысяча… тысяча триста — тысяча триста пятьдесят. А в банке — девять. Не подойдет.
Семен Семеныч не видит, но слышит отчетливо резкую, черную черту. И уже нет кителя — снова ряса.
— У меня — дома… — лепечет Семен Семеныч.
— Дома? Дома у вас только и осталась — Павла Петровна.
Колода насмешливо щелкает в руках у Круга, на сотую долю секунды перед Семен Семенычем мелькает туз — сверху колоды, а под тузом — неизвестно почему, но Семен Семеныч знает это, безошибочно чувствует каждым своим волосом, каждым нервом — под тузом десятка, и, опрокидывая рукавом рясы чей-то стакан, протягивает руку.
— На Павлу Петровну? Идет. Выиграете ваш банк. А нет — …
Капитан Круг, конечно, шутит. Всем ясно, что он шутит. И только Семен Семеныч понимает еще тогда, на шкуне, он понял, — но тут сверху туз, а под тузом десятка, и сейчас он сгребет всю эту кучу — и в карманы, и всему конец. Ах, в рясе, кажется, не бывает карманов — ну всё равно…
— Карту!
Туз. Ага! Еще карту. Двойка. Но как же двойка? Ведь Семен Семеныч ясно чувствовал там десятку — совершенно ясно.
— Еще одну… Десятка. Ага! Я так и знал — туз и десятка! — и Семен Семеныч открывает карты победоносно.
А вокруг него рушится смех, и он, засыпанный обломками, падает обратно на стул, выкарабкивается и, ничего не понимая, умывается, умывается лапкой.
— Чудак! Да ведь двойка же еще! — радостно, до слез, захлебывается мичман. — Туз да десятка, да двойка — двадцать три. Ну, давайте по пальцам — ну?
Все смеются, у всех зубы, одни зубы. И только — неизвестно отчего — плачет мадемуазель Жорж. Щеки у нее расписаны грязными ласами — краска с бровей; на остром кончике птичьего носа — смешная светлая капля.
И к мадемуазель Жорж, нелепо размахивая крыльями рясы, кинулся Семен Семеныч, заелозил губами по ласам, по светлой капле:
— Жоржинька… Жоржинька… Павленька…
И зарывается головою всё глубже, прячет голову от зубов — одни зубы.
— Мы с тобой… Выпей, выпей, голюбчик, — хлюпает мадемуазель Жорж и поит его из своего стакана.
Семен Семеныч глотает соленое и потом из стакана — колюче-сладкое. Все чаще в висках; все быстрее языки свечей, заячья мордочка, ямочки, зубы…
И вдруг — стоп: лист белой бумаги. Краешек стола: сладкое, липкое кольцо — след от стакана; в кольце — муха; и рука с сигарой — пододвигает к мухе лист белой бумаги.
— Ну-с, пишите: «Мною, нижеподписавшимся, бывшая моя жена, Павла Петровна, за сумму девять тысяч пятьсот рублей»… Теперь цифрами: девять тысяч пятьсот…
Семен Семеныч подул на муху: муха зажужжала жалобно, но взлететь не могла. Ну, пусть… Завернул рукав рясы, подписал покорно.
— Ой, Круг, будет вам! Ой, умру, не могу больше, — захлебнулся мичман, ямочки трясутся от смеха.
Семен Семеныч смахнул невидимую паутину с лица: Господи, ясно же — всё это шутка, ну просто — шутка. Розовеет выцветшая, дагерротипная улыбка, Семён Семеныч поднимает глаза. Мичман — он совсем еще мальчик, и такие милые ямочки. И Круг… что же — может быть, даже и Круг… Капитан Круг медленно складывает лист бумаги. Запертое на замок лицо. Резкая, черная черта бровей.
Было так, очень давно, в классе: заделанное в раме классного окна синее небо, на подоконнике — пронзительные воробьи. И Семен Семеныч написал классное сочинение о весне стихами. А потом стоял около кафедры, и гусиное перо — рраз! — черная черта через весну.
Черная черта бровей зачеркнула Семена Семеныча:
— Ну вот — всё в порядке. Завтра же отправляюсь получать по векселю.
Нет, это же всё шутка, конечно. Это же конечно… Всё чаще, всё торопливей Семен Семеныч умывается лапкой, и какие-то слова в голове — липкие, непослушные, непроворотные.
— Маруся, ну хоть вы… Ведь я же знаю… Ну ради Бога, скажите, не существует же в возможности действительность… я хочу — в действительности возможность…
— А-а, ничего не существует! Отстаньте! — морщится Маруся.
Окно выцветает, бледнеет, виден черный крест рамы: за окном начинается несуществующая действительность — день, обычный, нелепый, смешной, как все дни.
Откуда-то зайчонок-китаец. Нагнулся над запрокинутым венчиком Николая Мирликийского, трясет за плечо:
— Четыре часа. Велел будить. Вставай, четыре часа.
Голова в белом венчике покачнулась, прорезались глаза. Мутно обводит круг, потом — на себя: тужурка, оторванный погон, такой знакомый. Ну да: Семен Семеныч. И сердито зайчонку-китайцу:
— Ты кого это бу-будишь? Нет, ты кого будишь, а? Я тебе кого велел будить, а? — язык непослушный, вязкий.
— Тебя. Церковь надо.
— Нет, ты зачем меня будишь? Я тебе велел отца Николая, а ты гляди — ты кого? А?
«Детская» трясется от смеха. Зайчонок стоит растерянно: запутался. И испуганно, мутно, как дагерротипы в альбоме, глядит Семен Семеныч.
«Кто я? Я не существую. Ничего не существует».
На крышке стола перед ним, в сладком, липком кольце — муха всё еще взвизгивает и тщетно пытается взлететь вверх.
1920
Александр Грин
Серый автомобиль
16 июля, вечером, зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.
Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:
— Что с вами? Вы так рассеянны.
Я ответил:
— Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.
Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:
— Когда окончите вы ваше изобретение?
— Это тайна, — сказал я. — Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.
— Что это значит?
— Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.