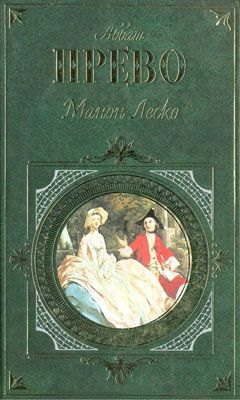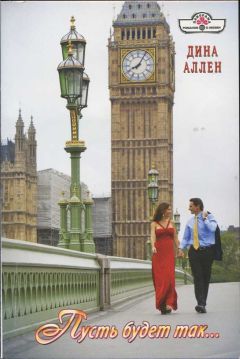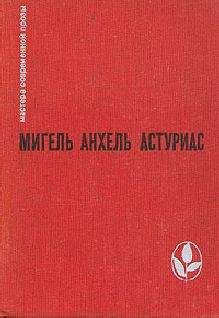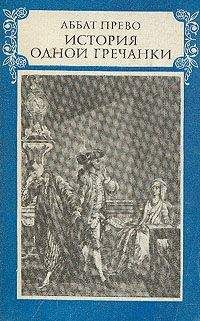Мигель Астуриас - Синьор президент
Два часа света, двадцать два часа полной темноты, одна жестянка с похлебкой, другая – с нечистотами, жажда летом, потоп – зимой; такова была жизнь в подземных тюрьмах.
…Весишь все меньше и меньше, – узник из двадцать седьмой не узнал своего голоса, – и когда ветер сможет справиться с тобой, он отнесет тебя к Камиле, ожидающей твоего возвращения! Она, наверное, помешалась от ожидания; вернется же нечто невидное, крохотное! Да разве важно, что у тебя тощие руки! Жар ее груди вольет в них силу!… Грязные?… Ее слезы омоют их… у нее зеленые глаза?… Да, как тирольский луг, изображенный в «Ла Илюстрасьон», или как ствол бамбука, с золотой кромкой и крапинками цвета индиго… И вкус ее речи, вкус ее губ, вкус ее зубов, вкус ее вкусноты… Ее тело, – когда оно будет моим? – удлиненная восьмерка с осиной талией, как те гитары из дыма, что появляются, когда замирает и гаснет фейерверк… Я украл ее у смерти одной ночью, озаренной фейерверком… Плыли ангелы, плыли тучи, плыли крыши с влажным следом росы, дома, деревья, все плыло в воздухе с ней и со мною…
И он ощущал Камилу рядом с собой, в соприкосновении, жарком и жадном, чувствовал ее, слышал, гладил пальцами, прижимал к своим ребрам, трепетавшим, как ресницы глаз в темной утробе…
Маленькой медной защепкой, которую он оторвал от шнурка своего ботинка – единственное металлическое орудие, бывшее в его распоряжении, – он нацарапал на стене сплетенные имена Камилы и собственное, – и, пользуясь светом между Каждыми двадцатью двумя часами, пририсовал затем сердце, кинжал, терновый венец, якорь, крест, парусный кораблик, звезду, трех ласточек, как три волнистые черточки, и железную дорогу, витки дыма…
Истощение избавило его, к счастью, от мучений плоти. Разбитый физически, он вспоминал о Камиле, как вдыхают аромат цветка или слушают поэму. Ему вдруг представилась роза, что из года в год цвела в апреле и мае под окном столовой, где ребенком он завтракал с матерью. Ушко на забавном розовом кусте. От мелькавших перед глазами дней детства кружилась голова. Свет уходил… Свет уже исчезал, едва успев появиться. Мрак глотал стены, как облатки, и уже скоро должна была появиться жестянка с нечистотами. Ах, где та роза! Скрежет каната, – и жестянка блаженства застучит о стены камер-кишок. Он содрогнулся при мысли о зловонии, сопровождавшем этого благородного гостя. Сосуд убирали, но вонь оставалась. Ах, где та роза, белая, как молоко за завтраком!…
С годами узник из двадцать седьмой постарел, причем несчастья на нем сказались больше, чем годы. Глубокие, бесчисленные морщины избороздили лицо, и седые волосы усеяли голову, словно крылья зимних муравьев. Не он, и не его фигура… Не он, не его труп… Без воздуха, без солнца, без движений, мучимый поносом, ревматизмом, страдающий от невралгических болей, почти ослепший, – единственным и последним, что поддерживало его, была надежда снова увидеть жену, любовь, будто наждаком отчищавшая сердце.
Начальник тайной полиции отодвинулся вместе с креслом, в котором сидел, засунул под него ноги, уперев носки ботинок в пол, поставил локти на черный столик, поднес перо к лампе и кончиками двух пальцев выдернул из него волосок, из-за которого буквы получались похожими на усатых рачков. Поковыряв затем в зубах, он продолжал писать:
«…и согласно инструкции (перо скребло бумагу, оставляя на пей завиток за завитком), упомянутый Бич завел дружбу с узником из камеры помер двадцать семь после того, как он пробыл там взаперти вместе с последним два месяца, разыгрывая комедию: плакал безутешно, вопил беспрестанно и пытался все время кончить жизнь самоубийством. В дружеской беседе заключенный из двадцать седьмой спросил его, какое преступление тот совершил против Сеньора Президента и почему находится здесь, где человек должен оставить всякую надежду. Упомянутый Бич не ответил, продолжая, как положено, биться головой об пол и выкрикивать проклятия. Но тот настаивал, и Бич развязал наконец язык: «Родился полиглотом в стране полиглотов. Узнал, что существует страна, где нет полиглотов. Поехал. Прибыл. Идеальная страна для иностранцев. Завязал повсюду связи, завел друзей, есть деньги, все… Вдруг встретил сеньору на улице: сделал несколько шагов вслед за нею, в нерешительности, с трудом превозмогая робость… Замужняя ли… девица… вдова?… Единственное, что знал, – это то, что должен идти за ною! Какие прекрасные глаза! Не рот – ликер анисовый! Какая походка! Земля обетованная… Последовал за нею, проводил до дома, сумел познакомиться, но с того момента, как заговорил с ней, больше ее не видел, а какой-то незнакомый человек, – его он никогда ранее не встречал, – начал ходить за ним следом, как тень… Друзья… Но в чем дело?… Друзья отвернулись от него. Камни уличной мостовой… Но в чем дело? Камни дрожали, услышав его шаги. Стены домов… Но в чем дело?… Стены домов трепетали, заслышав звук его голоса. Все, оказывается, заключалось в его неосторожности: он пожелал влюбиться в любовницу… Сеньора Президента, в даму, которая, – он узнал это до того, как его, обвинив в анархизме, посадили в тюрьму, – была дочерью генерала и пошла на такое, чтобы отомстить мужу, покинувшему ее…» Упомянутый Вич сообщает, что при этих словах он услышал шорох – так движется змея во мраке, – это узник приблизился к нему и тихо попросил – так взмахивает плавниками рыба, – чтобы он повторил имя этой дамы, имя, какое упомянутый Вич назвал второй раз… Тут узник стал вдруг скрести себя ногтями, словно что-то ему разъедало тело, но тела он уже не ощущал, стал царапать себе лицо, вытирая слезы на щеках, где оставалась одна кожа, исчезавшая под пальцами, и приложил руку к груди, не найдя ее: паутина из влажного праха упала на пол…
Согласно инструкции, я лично передал упомянутому Вичу, показания которого мною точно запротоколированы, восемьдесят семь долларов за то время, что он отбыл в заключении, а также выдал подержанный костюм из кашемира и деньги на билет. Кончина заключенного из камеры двадцать семь оформлена так: № 27 – токсическая дизентерия.
Имею честь доложить обо всем этом Сеньору Президенту…»
ЭПИЛОГ
Студент остановился как вкопанный у края тротуара, словно никогда доселе не видел человека в сутане. Но не сутана привела его в замешательство, а слова, что шепнул ему на ухо пономарь в то время, как они обнимались от радости, встретив друг друга на свободе:
– Я ношу теперь эту одежду по высочайшему разрешению…
Он запнулся, увидев цепочку арестантов, шедших между рядами солдат посреди улицы.
– Бедняги… – прошептал пономарь, а студент шагнул на тротуар. – Потрудились же они, снося Портал! Есть вещи, которые видишь и глазам своим не веришь!
– Hе только видишь, – воскликнул студент, – скажите лучше: руками трогаешь, да не веришь! Я говорю о муниципалитете…
– А я думал – о моей сутане…
– Мало им было размалевать Портал с помощью турок; теперь, чтобы никто не сомневался в возмущении, какое вызвало убийство полковника Сонриенте, понадобилось смести с лица земли все здание.
– Что вы болтаете, нас же могут услышать. Замолчите, ради бога! К тому же еще неизвестно…
Пономарь хотел прибавить что-то, но маленький человечек, вбежавший на площадь без шляпы, подлетел к ним, встал между ними и запел визгливым голосом:
Щеголь, образина,
кто тебя лепил
и зачем культяпкой
тебя наградил?
– Бенхамин!… Бенхамин!… – звала его бежавшая следом женщина, страдальчески сморщим лицо.
Из рук Бенхамина
а ты не выходил…
Кто же будто тяпкой
тебя обрубил?
– Бенхамин!… Бенхамин!… – кричала женщина, чуть не плача. – Не обращайте внимания, сеньоры, не принимайте его всерьез – он сумасшедший; никак не может понять, что нет уже Портала!
И в то самое время, как супруга кукольника извинялась за него перед пономарем и студентом, дон Бенхамин помчался дальше, чтобы пропеть свою песенку мрачному жандарму:
Щеголь, образина,
кто тебя лепил
и зачем культяпкой
тебя наградил?
Из рук Бенхамина
ты не выходил…
Кто же кожу тряпкой
тебе заменил?
– Нет, сеньор, не троньте его, он делает это без злого умысла, поверьте, он безумный! – молила полицейского жена дона Бенхамина, загораживая собой кукольника. – Посмотрите он сумасшедший, не трогайте его… пет, пет, не бейте его!… Подумайте, он до того обезумел, что говорит, будто видел, что весь город снесли, как Портал!
Арестанты шли и шли… Быть бы ими и не быть темп, которые, глядя на идущих, радуются в глубине души, что сами они не эти, проходящие мимо люди. За вереницей волочивших тачки следовала группа несших на плече тяжелый крест лопат, а сзади гремучей змеей тянулась вереница людей, звякавших цепями.
Дону Бенхамину удалось уйти от жандарма, который ругался с его женой, все более распаляясь, и побежал честить арестантов словами, срывавшимися прямо с языка: