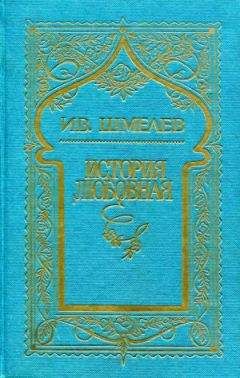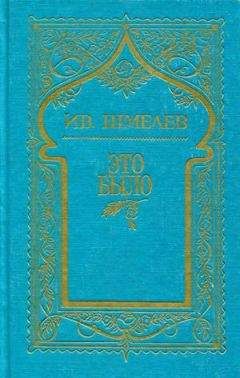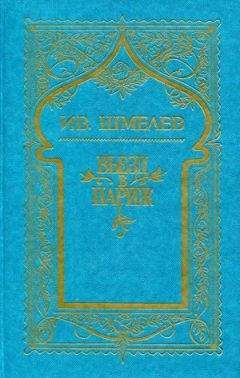Иван Шмелев - История любовная
Вспоминаю, как сон. Проходили темневшим садом. Белая беседка, колонны и блеск воды. Черные ветви в небе, зеленые и голубые звезды. Как будто чокали соловьи, пускали трели. Она вела меня под руку, сажала на скамейки, веяла на лицо платочком, целовала и называла мальчиком. Наконец выбрались на широкую дорогу, постучались в какую-то казарму. Горели огоньки в окошках. Я с жадностью напился. Сидел в высокой и скучной комнате, с голыми белыми стенами, с красными занавесками на окнах. Сидел на табуретке, придерживаясь за стол, смотрел на Государя в рамке, на спавшую канарейку в клетке. Они качались. Усатый старик в розовой рубахе пил чай с баранками и все приставал налить:
– А то бы выпили. У меня чай дворцовый, по знакомству. Чай знаменитый. А то налью?… Когда Государь здесь был, самый этот чай пил. И от головы оттянет… А то бы выпили, а?… Значит, сестрица это вам, барышня-то с вами?…
Он макал в чай баранки и все приставал с чаем. Я пробовал что-то говорить, но было тошно. Комната качалась, и самовар, и розовый старик усатый, и занавески с клеткой. Сверчки трещали.
– Водка у меня есть! – выпалили усы, как пушка, и закачалось в треске. – Первое дело, как слабость, – водки выпить!…
Я помню серые усы, и рюмку, и баранки. Помню седую лошадь, гремучую пролетку, чоканье подков, ночь… соломенную шляпку, щекочущую васильками щеки, руку за спиной, томящие духи, ужасные… прикосновенье губ, тревожный шепот… Я забывался, вздрагивал от стука. Узнавал заборы. Вот и дом…?
– Помни… – шептал мне кто-то, – дурно… встретила тебя…
– Прощайте… – шептал я фонарю, который падал. Ворчал извозчик. Хлопала калитка. Мотался Гришка… – узнал я бляху. Со свечкой кто-то… Кричали… куда-то подняли и опустили на потолок в сенях…
Кто-то возился около меня, шептался: «Доктор!., доктор!…» Нашатырный спирт, одеколон… лампадка, тени… сигарный запах…
…На голову лед… лед!., лед!…
XLIV
Я потерял сознание этой жизни – был где-то, вне. Сразу я был как будто во многих жизнях, но странного в этом не было. Это уже потом, когда вспоминалось смутно, казалось странным, как я себя мог видеть, с собой кружиться, видеть себя умершим, куда-то убегавшим с нею… И столько было чудесного! Звенели такие звоны, сияли такие светы!…
Но что я помню?…
Кружило меня в пространстве. Я взлетал на качелях, над чудесным, великим садом. Шумели внизу деревья. Я падал в ужас. Помню цветы… – таких никогда не видел, таких и нет: как будто розы, живые, в воздушных тканях, – цветы из волшебного балета, сквозного живого блеска, как драгоценный камень. Они перебегали, распускались, летели ко мне веяли мне в лицо, качались со мною вместе… Я взбегал по мостам над морем, которое пылало, – и падал в бездну. Множество странных женщин – как будто весталок и вакханок, словно с картинок «Нивы» – кружилось со мной в огнях, и мне становилось дурно от их круженья. Множество обнаженных рук, осыпанных драгоценными камнями невиданного блеска, куда-то меня манили… И черный, мохнатый бык гнался за мною ужасом.
Склонялась лысая голова, в очках, я слышал сигарный запах, меня томивший, узнавал комнату, чьи-то скорбно смотревшие на меня глаза, лампадку… Лысая голова хрипела, и я понимал как будто, что это доктор. Он меня нежно гладил, и мы уплывали с ним. Он показывал мне на льдины, мерцавшие синими огнями, плывшие на нас глыбами. Великое золотое море, расплавленное, в огнях, плескалось у самых глаз, плавилось нестерпимым жаром, – ломило глаза от блеска…
Являлась она, вся в белом… – всюду она являлась! – льнула ко мне, шептала, играла своими волосами… – тянула меня куда-то, торопила, – и мы убегали в сад. Дымное огненное солнце срывалось с неба, катилось, как красный шарик. Темнело сразу, и становилось страшно. Она тянула меня в овраг. В чернеющей глубине его подымались пунцовые жирные цветы, похожие на огромные пионы. Я падал с нею в мертвую черноту оврага…
Я пел удивительные песни! Были они без слов, одни напевы. От этих чудесных звуков сыпались хрустали, как крупный роскошный бисер, светившийся изнутри огнями, – и она делалась стеклянной и вся сияла… – дремала в зеленоватой воде, за стеклами, в чем-то большом хрустальном, в бриллиантовой чешуе, в огнях, привлекала жемчужными руками, воздыхала атласной грудью, небывалая рыба-женщина, «чудо моря», на которую мы смотрели где-то…
Помню ужас – извивавшихся толстых змей, черных, в зеленых пятнах. Они клубились за мной по комнатам. Я кидался от них на стены, и стены загорались…
Помню старенькое лицо… – священник? – маленькую золотую чашу, закрывавшую мне глаза, бледное лицо чье-то… – Паша?… почему она плачет?… – медный сиявший таз, откуда сверкали льдины, сквозившую восковую свечку…
Помню – самое страшное – мохнатого черного быка. Он гнался за мною всюду. Я взбегал на страшную высоту, над бурным, пылавшим морем, – он лез за мною… Он ревел в темноте оврага, подстерегал меня за стеной, за дверью. Он был огромный, с кроваво зиявшим глазом. Кровью мутился глаз, истекал ужасом, отвращением, – прожигал меня. Смерть была в нем – я знал. И вот, мохнатый настиг меня. Он поднялся черным горбом, и смрадный, палящий глаз брызнул в меня огнями. Что-то спасло меня… – сверкающая льдина?… Она закрыла. Меня понесло, качая… накрыло белым. Мне стало холодно…
– Теперь я тебе скажу, голубчик… – говорил мне Эраст Эрастыч, когда я совсем поправился. – Чудо тебя спасло. Ты на том свете уж побывал… тридцать два часика трупиком, под простынкой вылежал… под образами! И головенка твоя была вот под этим местом, между лопатками… – Он меня нежно обнял и поцеловал в голову. – Доклад о тебе пишу. Воспа-ле-ние мозга у тебя было, да ка-кое!… О-те-ки уже появлялись… – Он поднял плечи от удивления и недоуменно развел руками. – Уж как ты это?., как-то уж сам, брат, выдрался!…
– Ну, конец, думаю, нашему Тоничке… – рассказывала тетя Маша. – Уж и причащали тебя, и гробовщики у ворот дежурили, негодяи. Ну, думаю, поеду-ка в Вознесенский монастырь, положу на гроб шапочку… вот эту самую, шелко-венькую, Паша сшила… слезами всю измочила, глупая… Положу на гроб преподобной княгини Евфросинии, пусть разрешит… к какому-нибудь уж одному концу. Ведь две недели лежал без памяти! Надели мы на тебя, а ты и обмер!… Переложили мы тебя под образа, простынкой накрыли. Два дня не дышал, как мертвый… А вот – и опять Тоничка у нас!… – воскликнула тетя Маша, сияющая, необыкновенная тетя Маша. – А сколько ты раз с кровати-то скидывался… привязывали даже! И чего-чего ты только ни наболтал!… Такое ужасное говорил… ах, Тонька-Тонька!., да какой же ты… аааа!… Ну, постой, уж поговорю я потом с тобой!…
Первое время, дня три-четыре, когда я пришел в себя, я как будто забыл слова. Когда Паша меня спросила: «Хотите клюковной пастилы?» – я даже засмеялся:
– Почему ты так… «клюковная… па-стель»?! Она защебетала:
– Вот, болтушка яишная… Да не велит же вам доктор говорить!…
Она поерошила мне «ежик», – меня обрили, – и потерлась щекой по одеялу.
– Бледненький вы мой, совсем сквознюшка… картофельный росточек… – зашептала она сквозь слезы. – Уж как я измучилась об вас!
Она опустилась на колени, прильнула ко мне и стихла. Я погладил ее светлую головку. Комната вдруг качнулась и поплыла… и явилась опять, как чудо. Чудесны, свежи были легкие голубые занавески, живые занавески! завитушки на потолке, бронзовый шар над лампой – с чудесной дробью! – книжки мои на этажерке, белый бюстик милого Пушкина лобзик с блестящей пилкой, пышный букет сирени, сиявшей белыми крестиками, живыми, новыми!… Чудесной казалась мне золотистая милая головка Паши. Она уткнулась в белоснежную простыню, сжимала и целовала мою руку, и я увидел вздрагивающие плечи в голубой кофточке, нежную ее шею, в голубоватых жилках, в вьющемся золотом пушку, услыхал сдавленные всхлипы. Мне стало беспокойно.
– Паша… – выговорил я тревожно, – почему ты…?
Она вдруг резко откинулась, словно я испугал ее, выглянула сквозь слезы, издалека, – новая моя, голубоглазка…
– Ласточка ты моя… залетная!… – шепнула она надрывно, с болью, тряхнула кровать и убежала.
Но это было уже потом. А когда я пришел оттуда, где был вне жизни, открыл глаза… – я сразу не мог понять, что же такое – это?…
Это было – радость живого света.
Случилось это на третий день, как сняли с меня простынку, когда я ушел оттуда.
Я проснулся. Должно быть, было еще очень рано. Я увидал золотисто-розовое окно, легкие голубые занавески, новые на них ромашки. Они играли, кивали, пропадали, – ромашки по голубому полю. Солнце сквозило в них. За ними струился тополь – зелено-золотые струйки играли в нем. Густой, золотой, зеленый, – чудесный тополь! Голубою полоской сияло над ним небо. Оно дышало. Оно надувало занавески. Оно дохнуло и на меня свежей, густой струей, – земляникой, как будто… травкой?… – впивалось такою радостью!… Я потянулся к свету… Руки мои упали, комната помутнела, заструилась, – мне стало дурно. Прошло. Я открыл глаза. Чудесное, новое, живое!…