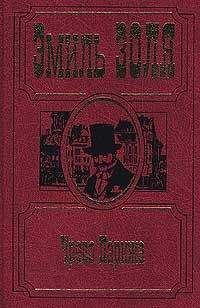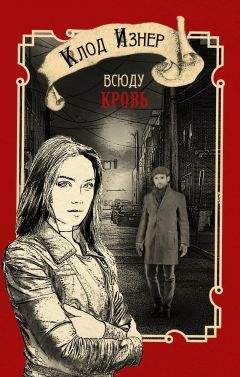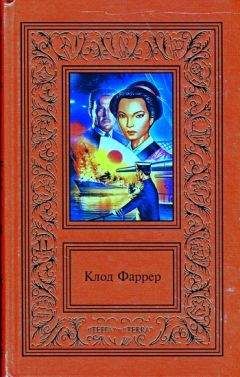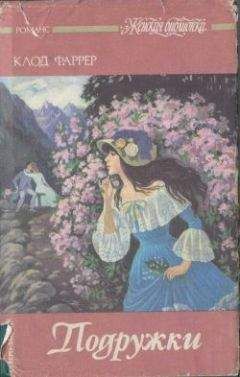Эмиль Золя - Творчество
На следующее утро, сразу после завтрака, он исчез. Кристина провела мучительный день; хотя утром, услышав, что он насвистывает южную песенку, она немножко успокоилась, но, чтобы не раздражать его, не поделилась заботами, которые ее угнетали. В этот день у них не было денег даже на еду, а до получения ренты оставалась еще целая неделя; утром она истратила последнее су, а на вечер у нее не было ничего, даже хлеба. К кому обратиться? Как скрыть от него истину, когда он придет домой голодный и ей нечего будет ему дать? Она решила заложить черное шелковое платье, которое когда-то подарила ей госпожа Вансад; но ей было очень тяжело решиться на этот шаг, она содрогалась от страха и стыда, представляя себе ломбард, это учреждение для бедных, порога которого она еще никогда не переступала. Ее охватил такой ужас за будущее, что из полученных под залог десяти франков она решилась истратить только самую малость и приготовила на обед щавелевый суп и тушеный картофель. Когда она выходила из ломбарда, неожиданная встреча окончательно ее расстроила.
Клод вернулся домой, переполненный скрытой радостью, веселый, с ясными глазами; было уже очень поздно, и он был чертовски голоден, даже рассердился, что еще не накрыто на стол. Усевшись за обед с Кристиной и маленьким Жаком, он моментально проглотил суп и съел полную тарелку картофеля.
— Как! Больше ничего нет? — спросил он у Кристины. — Неужели ты не могла приготовить мяса?.. Опять деньги ушли на ботинки?
Она что-то бормотала в ответ, не решаясь сказать ему правду, до глубины души оскорбленная его несправедливостью. А он продолжал трунить над ней, уверяя, что она припрятывает деньги для своего туалета; все больше и больше возбуждаясь от принятых им внутренних решений, которые он эгоистически хранил про себя, он вдруг накинулся на Жака:
— Прекратишь ли ты наконец, проклятый балбес! Это невыносимо!
Жак, оставив еду, стучал ложкой по краю тарелки, глаза у него блестели, он был в восторге от производимого им шума.
— Жак, перестань! — накинулась на него мать. — Дай отцу спокойно поесть.
Испуганный ребенок сразу присмирел и снова впал в свою обычную мрачную неподвижность, устремив тусклый взгляд на картофель, к которому он так и не притронулся.
Клод, преувеличивая свой голод, накинулся на сыр, тогда расстроенная Кристина предложила, что она сходит к колбаснику за вареным мясом, но он отказался в таких грубых выражениях, что она еще больше огорчилась. Когда она собрала со стола и вся семья уселась вокруг лампы, Кристина принялась за шитье, малыш уставился в книгу с картинками, а Клод долго барабанил пальцами по столу; мысли его витали где-то далеко, по-видимому, там, откуда он пришел. Внезапно он поднялся, взял бумагу и карандаш и при свете лампы начал быстро делать какой-то набросок. Этот сделанный по памяти набросок облегчил его сознание, ему необходимо было излить все те смутные мысли, которые распирали его мозг. Но набросок не удовлетворил его, наоборот, возбуждение его искало теперь выхода в словах. Он готов был говорить сейчас хоть со стеной, но так как около была жена, он обратился к ней:
— Помнишь, что мы вчера с тобой видели?.. О, какое великолепие! Сегодня я там провел три часа, теперь-то я знаю, что надо делать! Поразительная вещь! Такой удар все опрокинет… Смотри! Я помещусь под мостом, на первом плане у меня будет пристань св. Николая, с краном, с разгруженными баржами, с толпой грузчиков. Ты понимаешь, здоровенные парни с обнаженной грудью, с обнаженными руками… — это Париж за работой; с другой стороны — купальня, веселящийся Париж… Ну, а чтобы композиция держалась, в центре нужно поместить лодку, впрочем это еще не решено, надо поискать… Посредине Сена, широкая, необъятная…
По мере того, как он говорил, он карандашом намечал контуры, по десять раз перечеркивая все с такой энергией, что бумага рвалась. Кристина, чтобы доставить ему удовольствие, склонилась над ним и делала вид, что очень интересуется его объяснениями. Но на набросках была такая путаница, такое смутное нагромождение деталей, что она ничего не могла толком различить.
— Ты следишь за мной?
— Да, да, это великолепно!
— Вот! Теперь остается фон. Два рукава реки с набережными и торжествующий Старый город, который вздымается к небесам… Ах, какое диво, какая красота! Видишь все это каждый день и проходишь, не замечая; но красота пронизала тебя насквозь, восторг накопился в тебе; и вот однажды — свершилось! Ничто в мире не может быть величественнее. Это сам Париж во всей своей славе встает под солнцем… Ну, скажи, не глуп ли я был, не подумав об этом раньше! Сколько раз я смотрел и ничего не видел! Нужно было прийти туда тогда, после длинной прогулки по набережным… Ты помнишь, какой там сбоку удар тени, а вот тут солнце светит прямо, башни в этой стороне, шпиль св. Капеллы все утоньшается, легкий, как игла, вонзается в небо… Нет, она правее, подожди, я сейчас покажу тебе…
Он вновь начинал, без устали, без конца чертил, припоминая тысячу мелких, характерных подробностей, которые схватил на лету его взгляд художника: вот здесь пламенеет вывеска какой-то лавочки; ближе зеленоватый уголок Сены, по воде плывут масляные пятна; как хорош неуловимый тон деревьев, гамма серого в фасадах домов и надо всем непередаваемое сверкание небес! Она сочувственно поддакивала ему, старалась сделать вид, что разделяет его восторг.
Но Жак еще раз помешал им; просидев долгое время в неподвижности, погруженный в созерцание картинки с изображением черной кошки, он начал потихоньку напевать песенку, которую только что сложил: «О! Хорошенькая кошка! О! Противная кошка! О, хорошенькая, противная кошка!» И так до бесконечности, не меняя жалобной интонации.
Клода раздражало это бормотание, вначале он даже и не понял, что действует ему на нервы. Потом неотвязная фраза ребенка дошла до его сознания.
— Перестань истязать нас своей кошкой! — зло закричал Клод.
— Жак, замолчи, когда говорит отец! — повторила Кристина.
— Честное слово, он становится идиотом… Посмотри-ка на его голову, ведь это голова настоящего идиота. Тут есть от чего прийти в отчаяние… Объясни, что ты хочешь сказать, когда говоришь, что кошка и хорошенькая и противная?
Ребенок, побледнев, покачивая своей непомерно большой головой, испуганно ответил:
— Не знаю.
Обескураженные отец и мать переглянулись, ребенок положил щеку на раскрытую книгу и смотрел широко открытыми глазами, не шевелясь, не говоря ни слова.
Было уже поздно, Кристина хотела уложить ребенка спать, но Клод вновь пустился в объяснения. Теперь он заявил, что с, утра пойдет делать наброски на натуре, чтобы зафиксировать возникший у него план. Он сказал также, что необходимо купить маленький переносный мольберт. Об этой покупке он мечтал уже много месяцев. В связи с этим он заговорил о деньгах. Она смешалась и кончила тем, что призналась во всем — последнее су проедено утром, шелковое платье заложено, чтобы было на что пообедать. На него нахлынули угрызения совести, он нежно поцеловал ее и просил простить его поведение за столом. Она должна его извинить, ведь он способен убить отца и мать, когда эта чертова живопись возьмет его за живое. Впрочем, рассказ о ломбарде рассмешил его, он не боялся нищеты.
— Успокойся! — кричал он. — Эта картина наконец-то принесет успех.
Она молчала, думая о сегодняшней встрече, которую она хотела скрыть от него; но непроизвольно, без повода, вне всякой связи, как бы в беспамятстве, признание сорвалось у нее с губ:
— Госпожа Вансад умерла.
Он удивился:
— В самом деле, как ты об этом узнала?
— Я встретила ее старого лакея… Сейчас он стал заправским господином и очень молодцеватый, хотя ему уже семьдесят лет. Я его даже не узнала, это он ко мне обратился… Да, она умерла, вот уже шесть недель. Ее миллионы достались больницам, за исключением маленькой ренты, которую она оставила своим старым слугам.
Он смотрел на нее, печально пробормотав:
— Бедная Кристина, теперь ты жалеешь, конечно. Ведь она бы дала тебе приданое, выдала бы тебя замуж, я тебе об этом говорил когда-то. Ты стала бы, вероятно, ее наследницей и не подыхала бы с голоду с таким чудаком, как я.
Эти слова как бы пробудили ее. Она придвинула к нему свой стул, обняла его, прижалась к нему, всем своим существом протестуя против этих слов.
— Что ты говоришь? Конечно, нет, нет… Какой стыд, никогда я не думала о ее деньгах. Ты же знаешь, я не лгунья, я бы тебе призналась, если бы это было так; мне даже самой трудно определить, что я почувствовала: потрясение, грусть, — грусть, видишь ли, при мысли, что для меня все кончено… Это, несомненно, угрызения совести, ведь я так грубо бросила больную, бедную женщину, которая называла меня дочерью. Я поступила плохо, такой поступок не принесет мне счастья. Не разуверяй меня, я знаю, что отныне для меня все кончено.