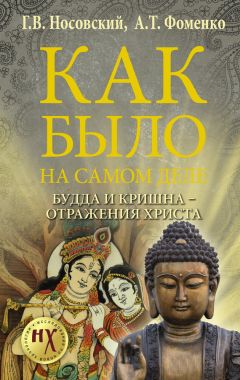Генри Миллер - Аэрокондиционированный кошмар
Телеграфная контора была на вокзале. Я отправил телеграмму, присел в тени на скамейку и поплыл назад, в год 1913-й, в тот же месяц, а может быть, и в тот же самый день, когда я в первый раз увидел Барстоу из окна сидячего вагона. Поезд и сейчас стоит на путях так же, как двадцать восемь лет назад. Ничего не изменилось, кроме того, что я протащил себя уже полпути вокруг земного шара и вернулся туда же. Достаточно любопытно, что ярче всего живут в моей памяти запах и вид апельсинов на ветвях деревьев. Особенно запах. Это как приблизиться к женщине, на встречу с которой ты и надеяться не смел. И другие вещи вспоминаются тоже, но там приходится иметь дело больше с лимонами, чем с апельсинами. Работа, которую я нашел неподалеку от Чула-Висты, — целый день под палящим солнцем выжигать кустарники в саду. Афиша на стене в Сан-Диего, объявлявшая о цикле лекций Эммы Голдман, — нечто такое, что изменило весь ход моей жизни. Поиски работы на коровьем ранчо под Сан-Педро, мысли о том, чтобы стать ковбоем, книг о ковбойской жизни начитался. Стояние вечерами на крыльце ночлежки со взглядом, устремленным к Пойнт-Лома, в сомнениях, понял ли я ту странную книгу из библиотеки в Бруклине — «Эзотерический буддизм». Я о ней вспомнил через двадцать лет в Париже и сдуру перечитал. Нет, радикально ничего не изменилось. Утверждения и подтверждения лучше, чем разочарования. Каким я был «философом» в восемнадцать лет, таким и останусь до конца дней своих. Душа анархиста, ум непредубежденный, свободный художник, вольный стрелок, флибустьер. Надежный в дружбе, надежный в ненависти, не терпящий всякие «ни вашим, ни нашим», половинчатость, компромиссы. Так вот, тогда мне не понравилась Калифорния, и у меня есть предчувствие, что она не понравится мне и теперь. Одна страсть уже испарилась — желание увидеть Тихий океан. К Тихому океану я равнодушен. Во всяком случае, к той его части, что омывает побережье Калифорнии. Венис, Редондо, Лонг-Бич — я ведь в них так и не побывал еще, хотя вот именно в этот хронологический момент нахожусь от них в нескольких минутах езды на машине, в целлулоидном городе Голливуде.
Итак, автомобиль мой охладился, а я малость размечтался. Вперед на Сан-Бернардино!
Миль двадцать после Барстоу вы движетесь по стиральной доске с песчаными дюнами, напоминающими о Берген-Бич или Кэнарси. Немного погодя вы замечаете фермы и деревья, могучие деревья с колеблющейся под ветром листвой. И сразу мир снова становится одушевленным, человеческим — все из-за деревьев. Медленно, постепенно вы начинаете спускаться. И деревья, и дома спускаются вместе с вами. Каждую тысячу футов попадается большой знак, обозначающий высоту над уровнем моря. Ландшафт становится измеряемым. Вокруг вас резкие, высоченные скалистые цепи постепенно сглаживаются, сходят почти на нет, тают среди пляшущих волн зноя. Некоторые из них полностью исчезают, оставляя лишь снежно-розовое мерцание в небесах, словно мороженое, оставшееся без стаканчика; другие выставляют картонные безжизненные фасады, чтобы просто обозначить свое существование.
Где-то, приблизительно на милю вверх ближе к Богу и его крылатым спутникам целое действо обрушивается на вас. Все линии вдруг сходятся в одной точке — как в рекламном трюке. И вы видите вспышку зелени, самой зеленой, какую только можно вообразить, зелени, вспыхнувшей словно для того, чтобы у вас ни тени сомнения не осталось, что Калифорния — это и в самом деле рай, а рай вправе похвастать собою. И кажется, что всё, кроме океана, набилось в этот горный цирк и вертится со скоростью шестьдесят миль в час. Нет, это не я охвачен нервным трепетом — человек, оказавшийся внутри меня, пытается сам пережить то волнение, которое, как он воображает, охватывало пионеров, добиравшихся сюда на своих двоих или верхами. Но, сидя в автомобиле, окруженном полчищами воскресных послеполуденных маньяков, невозможно ощутить те же эмоции, которыми это зрелище могло наполнить человеческое сердце. Я хотел бы вернуться сюда через то ущелье — Кайонский проход, — вернуться пешком, держа почтительно шляпу в руке и с благодарностью Создателю в сердце. Мне хотелось бы, чтобы это было зимой и легкий снежный покров устилал землю, а подо мной были бы маленькие саночки, на каких в детстве катался Жан Кокто. И, плюхнувшись на них пузом, заскользить к Сан-Бернардино. А если бы уже созрели апельсины, может быть, Бог простер бы свою милость до того, что расположил немного дерев где-то поблизости, чтобы я мог срывать плоды со скоростью восемь миль в час и раздавать беднякам. Разумеется, апельсины есть и в Риверсайде, но сочетать их с тоненьким снежным одеяльцем и легкими санками было бы полнейшей географической несуразицей.
Но самое главное заключается в том, чтобы помнить: Калифорния начинается с повисшего в воздухе на высоте мили Кайонского прохода. Барстоу еще в Неваде, Лудлоу вообще приснился или был миражом. Что же касается Нидлса, то он лежал на океанском дне в другие времена — в третичный или мезозойский период.
Я добрался до Бербанка, когда уже стемнело. Стайки молодежи из школы механиков усыпали тротуары Мэйн-стрит, уплетая сандвичи и запивая их кока-ко — лой. Я попробовал вызвать в себе молитвенное чувство в память селекционера Лютера Бербанка, но движение было чертовски лютое и нельзя было отыскать место для парковки. Никакой связи между Лютером и городом, носящим его имя, я не заметил. А может быть, город назвали в честь другого Бербанка, короля содовой, или жареной кукурузы, или ламинированных клапанов. Я остановился у аптеки и принял там бром-соду — «от головы». Подлинная Калифорния начала проявлять себя. Мне захотелось блевать. Но без разрешения вас не может стошнить в общественном месте. Так что я отправился в гостиницу и взял очаровательный номер с радио, очень похожий на ящик для грязного белья. По радио все продолжал мурлыкать Бинг Кросби; ту же самую песню я слышал и в Чаттануге, и в Чикамауге, и в других местах. Мне хотелось Конни Босвелл, но ее-то они как раз и отключили на это время. Я стащил с себя носки и обмотал их вокруг приемника, чтобы заткнуть ему глотку. Было уже восемь часов, а проснулся я на рассвете дней пять тому назад, так мне, во всяком случае, показалось. Не было здесь ни тараканов, ни клопов, а только равномерный рев транспорта на бетонной ленте шоссе. Да еще Бинг Кросби плыл ко мне на голубых волнах эфира из раскрытых дверей магазина «Все за двадцать пять центов».
Суаре в Голливуде
Первый мой вечер в Голливуде. Он был настолько типическим, что я уж подумал, не сделали ли его таким специально ради меня. Тем не менее по чистой случайности я оказался в черном красавце «паккарде», прикатившем меня к дому миллионера. Пригласил меня на обед совершенно незнакомый человек. Я даже не знал имени хозяина. Да и сейчас не знаю.
Первое, что бросилось в глаза, едва я был введен в гостиную, — меня окружали явно состоятельные люди, люди, смертельно надоевшие друг другу, и все они, включая восьмидесятилетних старцев, были в крепком подпитии. Хозяин с хозяйкой с удовольствием исполняли роль бармена. За ходом разговора следить было трудно, все походило на игру в «испорченный телефон», где понять друг друга почти невозможно. Главное было хватануть как следует прежде, чем сесть за стол. Один милый старичишка, попавший недавно в жуткую автокатастрофу, принял уже пятый «олд-фэшнд»[47] и гордился собой — гордился самим этим событием, гордился тем, что пьет, как молодой, хотя от легкого паралича еще не отделался. И все находили это чудом.
Вокруг не было ни одной привлекательной женщины, за исключением той, что доставила меня сюда. Мужчины выглядели людьми бизнеса, кроме двух-трех, похожих скорее на престарелых штрейкбрехеров. И всего одна довольно молодая пара, на мой взгляд, лет тридцати. Муж был типичным удачливым дельцом, одним из тех бывших игроков в футбол, что пошли в рекламное дело, или в страхование, или в биржевые операции, чисто американское занятие, где вы не рискуете запачкать своих рук. Он окончил какой-то из университетов Запада и был нормальным шимпанзе с законченным высшим образованием.
Вот такая была обстановка. Когда каждый нализался должным образом, объявили, что кушать подано. Мы сели за длинный стол, элегантно обставленный, с тремя или четырьмя бокалами перед каждым прибором. И разумеется, в изобилии лед. Двенадцать ливрейных лакеев жужжали над нами, словно слепни в жаркий день. Это был избыток всего, бедняк мог вполне насытиться одним блюдом из разряда холодных закусок. За едой разговоры пошли еще более сбивчивые, перескакивали с одной темы на другую, и, вот что важно, возникли дискуссии. Преклонных лет душегуб во фраке, цветом лица напоминавший вареного омара, крыл на чем свет стоит профсоюзных агитаторов. Он напомнил мне религиозных пророков, но скорее смахивал на Торквемаду, чем на Христа. Рузвельт, Бриджес, Гитлер, Сталин — все они для него были одним миром мазаны и все заслужили анафему. При всем том он обладал огромным аппетитом, вероятно, стимулировавшим работу его надпочечников. Как раз к тому времени, когда он добрался до жаркого, он говорил о том, что виселицы мало для такого народа. А хозяйка дома, расположившаяся слева от старика, продолжала между тем прелестную, абсолютно бессодержательную беседу с дамой, сидевшей напротив. Хозяйке только что пришлось оставить своих такс в Биаррице, а может быть, в Сьерра-Леоне, и это, если верить ее словам, страшно ее мучило. В такое время, сетовала она, люди совсем забывают о бедных животных. Люди могут быть такими жестокими, особенно во время войны. В Пекине слуги все разбежались и оставили ее одну возиться с сорока чемоданами — это ведь возмутительно! И как хорошо было вернуться в Калифорнию! Богом отмеченная страна, так она назвала Калифорнию. Она надеялась, что война не распространится на Америку. Боже мой, куда же теперь поедешь? Нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Разве что в пустыне.