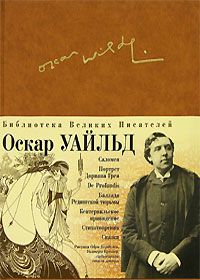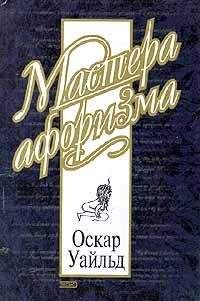Оскар Уайльд - Кентервильское привидение (сборник)
ЭРНЕСТ. И, если я не ошибаюсь, владеющий этим духом или владеемый им не будет делать ничего?
ДЖИЛБЕРТ. Подобно Персефоне, о которой рассказывал Лэндор, этой мечтательной, нежной Персефоне, воздушными шагами ступающей по асфоделям и амарантам в цвету, он «погрузится глубоко в покой недвижный, который смертных удручает и радует богов». Он будет всматриваться в мир и постигать его тайну. Соприкасаясь с божественным, он сам войдет в священный сонм. Его жизнь будет совершенством – именно его жизнь, и ничья другая.
ЭРНЕСТ. Сегодня я услышал от вас много странного, ДЖИЛБЕРТ. Вы утверждали, что говорить о созданном труднее, чем создавать, и что ничегонеделанье – труднейшее занятие в мире; вы утверждали, что все Искусство аморально, и что всякая мысль таит в себе опасность, и что критика в большей степени творчество, чем само творчество, и что высшая Критика та, которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумевающиеся художником, и что истинным судьей становишься именно потому, что ничего не можешь создать сам, и что настоящий критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален. Друг мой, да вы мечтатель!
ДЖИЛБЕРТ. Да, я мечтатель. Ведь мечтатель – это тот, кто находит свою тропу только при лунном свете, а наказание его в том, что он видит рассвет раньше, чем все другие.
ЭРНЕСТ. Наказание?
ДЖИЛБЕРТ. И награда. Вот видите, уже рассвело. Поднимите шторы и настежь откройте окна. Как свеж утренний воздух! Пикадилли лежит у наших ног, словно длинная серебряная лента. Слабый, подкрашенный пурпуром туман еще стоит над парком, и пурпурные тени тянутся от белых домов. Спать уже поздно. Пойдемте в Ковент-Гарден, полюбуемся розами. Пойдемте! Мысль утомила меня.
Истина о масках
Заметки об иллюзии
(Перевод М. Кореневой)
Обрушив в последнее время довольно резкие нападки на пышность оформления, которая ныне отличает шекспировские постановки у нас в Англии, критики как будто негласно признали, что сам Шекспир был более или менее равнодушен к костюмам своих актеров и что, доведись ему увидеть постановку «Антония и Клеопатры», осуществленную труппой миссис Лэнгтри, он, вероятно, заявил бы, что суть – в пьесе, и только в пьесе, все остальное – сущие пустяки. А лорд Литтон в своей статье относительно исторической точности, помещенной в журнале «Найнтинс сенчури», объявил одним из устоев искусства, что в постановке любой из шекспировских пьес «археология» совершенно неуместна, а попытку обратиться к ней – одним из глупейших проявлений педантизма, присущего веку формалистов.
Я позже коснусь позиции лорда Литтона; что до теории, будто Шекспир не заботился о гардеробе своего театра, то всякий, кто не почтет за труд изучить метод Шекспира, увидит, что абсолютно ни один из драматургов французской, английской или афинской сцены не полагался в такой мере для достижения эффекта иллюзии на костюмы своих актеров, как это делает сам Шекспир.
Зная, как художественный темперамент бывает всегда очарован красотой костюма, он постоянно включает в пьесы маски и танцы исключительно ради того наслаждения, которое они доставляют взору; мы располагаем и поныне ремарками, относящимися к трем большим процессиям в «Генрихе VIII», ремарками, отмеченными необычайной тщательностью передачи деталей, вплоть до цепей ордена Подвязки и жемчугов в волосах Анны Болейн. Поистине для современного антрепренера не составило бы труда воспроизвести эти шествия совершенно в том виде, как их задумал Шекспир; и столь точны были их описания, что один из придворных того времени, рассказывая в письме другу о последнем представлении пьесы в театре «Глобус», действительно сетует по поводу их реалистичности (особенно – о представлении на сцене рыцарей ордена Подвязки в одеяниях и со знаками отличия этого ордена), рассчитанной якобы на то, чтобы подвергнуть осмеянию подлинную церемонию, в том же духе, в каком французское правительство некоторое время тому назад запретило восхитительному актеру месье Кристиану появляться на подмостках в военной форме на том основании, что карикатурное изображение полковника бросает тень на воинскую славу. Роскошь одеяний, ставшая под влиянием Шекспира отличительной чертой английской сцены, и в других местах подвергалась нападкам со стороны современных критиков, однако, как правило, не из демократических тенденций реализма, а обычно на моральных основаниях, которые неизменно являются последним прибежищем людей, лишенных чувства красоты.
Однако же мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, состоит не в том, что Шекспир ценил прелестные костюмы за то, что они прибавляют поэзии живописность, но в том, что он видел, сколь важен костюм как средство достижения определенных драматических эффектов. Иллюзия, создаваемая в таких пьесах, как «Мера за меру», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Цимбелин» и другие, зависит от характера одеяний, которые носит герой или героиня; восхитительная сцена в «Генрихе VI» с чудесным исцелением теряет всякий смысл, если Глостер облачен не в черные и алые одежды; а вся развязка «Виндзорских проказниц» держится на цвете платья Анны Пейдж. Что же касается использования Шекспиром переодевания, примеров тому чуть ли не бесчисленное множество. Постум скрывает свою страсть под крестьянской одеждой, а Эдгар – свою гордость под лохмотьями дурака; Порция облачается в наряд судьи, а Розалинда одевается «в мужское платье»; мешок Пизанио преображает Имоджену в юношу Фиделио; Джессика бежит из дома отца в одежде мальчика, а Юлия в знак любви завязывает свои золотые волосы причудливыми узелками и надевает штаны и камзол; Генрих VIII прельщает свою даму в наряде пастуха, а Ромео – в наряде пилигрима; принц Хэл и Пойнс предстают впервые в клеенчатых плащах разбойников, а затем – в белых фартуках и кожаных куртках трактирных слуг; что до Фальстафа, не является ли он в обличье грабителя с большой дороги, старухи, охотника Херна и грязного белья, предназначенного для стирки?
Не менее многочисленны и примеры использования костюма как средства усиления драматизма ситуации. После убийства Дункана Макбет выходит в халате, словно он был внезапно разбужен; Тимон, начинавший пьесу в роскоши, в финале предстает в лохмотьях; Ричард обольщает жителей Лондона в жалких, видавших виды доспехах, но стоило ему вступить по крови на трон, как он шествует по улице в короне, с орденами Св. Георгия и Подвязки; «Буря» достигает кульминации в тот момент, когда Просперо, сбросив плащ чародея, посылает Ариэля за своей шляпой и мечом и объявляет, что он не кто иной, как могучий итальянский герцог; сам Призрак меняет в «Гамлете» свои таинственные одеяния, чтобы добиться разного эффекта; а если взять Джульетту, современный драматург, вероятно, представил бы ее в саване, превратив эту сцену лишь в сцену ужаса, тогда как Шекспир облачает ее в богатые, роскошные одежды, прелесть которых преображает склеп в «блестящий пиршественный зал», обращает могилу в свадебный чертог и дает ключ к монологу Ромео с его лейтмотивом торжества Красоты над Смертью.
В руках Шекспира даже мелкие детали одежды, такие, как цвет чулок мажордома или узор на платке жены, на рукаве молодого воина и на шляпках модницы, приобретают поистине огромную драматическую нагрузку, а некоторые из них целиком определяют действие той пьесы, в которой они фигурируют. Многие другие драматурги использовали костюм как средство, позволяющее непосредственно показать характер персонажа при его первом выходе, но едва ли им удавалось это сделать с таким блеском, как Шекспиру в образе щеголя Паролла, чей костюм, кстати говоря, понятен только «археологу»; забавные сцены, когда господин и его слуга обмениваются одеждой на глазах у публики, потерпевшие кораблекрушение матросы ссорятся из-за того, как разделить между собой ворох прекрасного платья, а жестянщик, разряженный, как герцог, занимается своими горшками, можно считать частью той великой роли, которую неизменно играл в комедии костюм со времен Аристофана до м-ра Гилберта; но никто никогда не достигал с помощью одних лишь деталей одежды и украшений такого иронического контраста, такого непосредственного и трагического эффекта, такого сострадания и пафоса, как Шекспир. Умерший Король в полном вооружении бесшумно движется по укрепленным стенам Эльсинора, потому что не все в Дании так, как должно быть; долгополый еврейский сюртук Шейлока – одно из обличий позорного клейма, которое с содроганием несет эта уязвленная и озлобленная натура; моля о жизни, Артур не может придумать лучшего основания, чем данный им Хьюберту платок:
И хватит духу у тебя? А помнишь,
Как мучился ты головною болью
И лоб тебе я повязал платком
(То был мой самый лучший, мне его
Принцесса вышила), и я обратно
Его не взял?[38] —
а окровавленный платок Орландо вносит первую мрачную ноту в изысканную лесную идиллию, показывая нам глубину чувства, скрытого в причудливом остроумии и напускном шутовстве Розалинды.