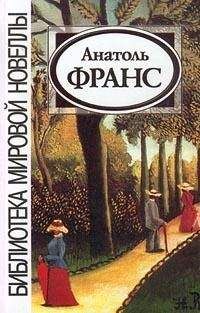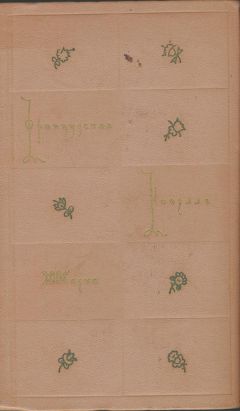Анатоль Франс - 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне
Дело было прекращено за отсутствием улик. Учитель был отпущен домой после сурового внушения судьи, который горячо рекомендовал ему на будущее сдерживать свои зверские инстинкты. Малыши, ученики монахов, устроили кошачий концерт перед его опустевшей школой. Когда он выходил из дому, они кричали ему: «Эй ты! Поджарь-Зад!» — и бросали в него камнями. Инспектор начальных школ, узнав о таком положении вещей, сообщил по начальству, что этот учитель не пользуется авторитетом у своих учеников, и высказался за его немедленное перемещение. Учитель был послан в деревню, где говорили на местном наречии, которого он не понимал. Его и там звали Поджарь-Зад. Это было единственное французское выражение, которое там усвоили.
Постоянно общаясь с г-ном Тома, я узнал, почему получается, что свидетельские показания, собранные должностными лицами, обладают все одним и тем же стилем. Он принял меня в своем кабинете, где, с помощью секретаря, вел допрос какого-то свидетеля. Я хотел было уйти, но он попросил меня остаться, ибо мое присутствие ничуть не могло помешать нормальному отправлению правосудия.
Я уселся в углу и стал слушать вопросы и ответы.
— Дюваль, вы ведь видели обвиняемого в шесть часов вечера?
— Так что, господин судья, жена моя была у окошка. Ну, она мне и сказала: «Вон Соккардо идет!»
— Его присутствие под вашими окнами показалось ей достойным внимания, почему она и сочла нужным сообщить вам об этом. А вам намерения обвиняемого не казались подозрительными?
— Вот значит как, господин судья. Жена мне сказала: «Вон Соккардо идет!» Тогда я посмотрел и сказал: «И верно! Это Соккардо!»
— Ну, так! Секретарь, пишите: «В шесть часов пополудни супруги Дюваль заметили обвиняемого, который бродил вокруг дома с подозрительными намерениями».
Господин Тома задал еще несколько вопросов этому свидетелю, простому поденщику; полученные ответы он продиктовал секретарю в переводе на юридический жаргон. Затем свидетелю были прочитаны его показания, он подписался, поклонился и вышел.
— Почему бы вам, — спросил я тогда, — не протоколировать свидетельские показания в том виде, в каком они были сделаны, вместо того чтобы переводить их на язык, чуждый свидетелю?
Господин Тома посмотрел на меня с удивлением и ответил спокойно:
— Не знаю, что вы имеете в виду. Я протоколирую свидетельские показания с наивозможною точностью. Все судейские так делают. И в анналах магистратуры нельзя найти ни одного примера свидетельских показаний, искаженных или урезанных судьей. Если в соответствии с обычаем, установленным среди моих коллег, я изменяю самые слова, употребленные свидетелями, — это потому, что свидетели вроде Дюваля, которого вы только что слышали, скверно излагают свои мысли и правосудие унизило бы свое достоинство, протоколируя без особой необходимости выражения неправильные, вульгарные и зачастую грубые. Но, милостивый государь, вы, я полагаю, недостаточно учитываете условия, в каковых протекает судебное следствие. Не нужно упускать из виду, какую цель ставит перед собой следователь, протоколируя и группируя свидетельские показания. Ведь он должен не только сам уяснить себе обстоятельства дела, но и разъяснить их суду. Недостаточно, чтобы все прояснилось в твоей голове; необходимо, чтоб свет проник и в головы судей. Следует выявить улики, иногда таящиеся в путаном и многословном рассказе свидетеля, равно как и в уклончивых ответах обвиняемого. Если бы все это не записывалось в особом порядке, то доказательства, даже наиболее веские, показались бы неубедительными, и большинство преступников избежало бы кары.
— Но разве нет опасности в самом этом уточнении нечетких мыслей свидетеля?
— Эго могло бы иметь место, если бы судьи не были добросовестны. Но я не знал еще ни одного судьи, который бы не обладал высоким сознанием своего долга. А между тем я заседал вместе с протестантами, деистами и иудеями. Но они были судьями.
— Во всяком случае, господин Тома, ваш способ вести процесс имеет одно неудобство, а именно то, что свидетель, когда вы ему читаете его показания, почти не может их понять, так как вы вводите туда выражения ему непривычные, смысл которых от него ускользает. Что понимает этот поденщик в вашем выражении «подозрительные намерения»?
Он живо возразил мне:
— Я думал об этом и предусматриваю подобную опасность. Я сейчас вам приведу пример. Недавно один свидетель, человек весьма ограниченного ума и нравственность коего мне неизвестна, был невнимателен, когда секретарь читал его собственные показания. Призвав свидетеля к сугубому вниманию, я велел прочитать их вторично. Я заметил, что ничего не достиг. Тогда я употребил хитрость, чтобы внушить ему правильное понятие о его долге и ответственности. Я продиктовал секретарю последнюю фразу, которая противоречила всем предыдущим. И дал свидетелю подписаться. В тот момент, когда он поднес перо к бумаге, я схватил его за руку: «Несчастный! — вскричал я. — Вы хотите подписать показания, противоречащие тем, которые вы только что сделали, и таким образом совершить уголовное преступление».
— И что же он вам сказал?
— Он ответил мне жалобно: «Господин судья, вы ведь ученее меня, вы лучше знаете, как писать». Вы видите, — добавил господин Тома, — что судья, добросовестно выполняющий свои обязанности, огражден от всякой возможности ошибки. Поверьте, милостивый государь, судебная ошибка — это басня.
ДОМАШНЯЯ КРАЖА
Анри Mоно[135]
Лет десять тому назад мне случилось побывать в одной женской тюрьме. Это был старинный замок, выстроенный еще при Генрихе IV и возвышавший свои остроконечные шиферные крыши над невзрачным южным городком, расположенным на берегу реки.
Начальник тюрьмы достиг уже того возраста, когда начинают подумывать об отставке. Парик у него был черный, а борода седая. Это был своеобразный начальник. Он самостоятельно мыслил и был человечен. Он не питал иллюзий относительно нравственности трехсот своих подопечных, хотя отнюдь не полагал, чтобы она была намного ниже, чем у каких-нибудь других трех сотен женщин, взятых наугад в любом городе.
«Здесь все так же, как везде», — казалось, говорил мне его усталый, мягкий взгляд.
Когда мы проходили по тюремному двору, длинная вереница женщин заканчивала свою молчаливую прогулку и возвращалась в мастерские. Тут было немало старух с грубыми и хитрыми лицами. Сопровождавший нас тюремный врач, мой добрый знакомый, указал мне на то характерное явление, что почти все эти женщины отличаются физическими недостатками, что среди них часто встречаются косоглазые, что все они дегенератки и лишь немногие среди них не отмечены признаками преступности или по крайней мере порочности.
Начальник тихо покачал головой, и я понял, что он не очень-то доверяет теориям медиков-криминалистов и остается при убеждении, что виновных в нашем обществе не всегда отличишь от невиновных.
Он повел нас в мастерские. Мы увидели, как работают булочницы, прачки, белошвейки. Казалось, труд и чистота доставляли им что-то похожее на радость. Ко всем этим женщинам начальник относился хорошо. Самые тупые, самые злобные не могли поколебать его терпения и доброжелательности. Он полагал, что нужно многое прощать людям и не следует слишком много спрашивать даже с преступниц. Вопреки обыкновению, он не требовал от воровок и сводень, чтобы они стали безупречными только потому, что их постигла кара. Не очень-то доверяя исправительной силе наказаний, он и не помышлял превратить тюрьму в школу добродетели. Он не думал, что людей можно сделать лучше, заставляя их страдать, и как мог облегчал страдания этим несчастным. Не знаю, насколько он был религиозен, но идее искупления он не придавал никакого нравственного смысла.
— Я толкую устав, прежде чем его применять, — сказал он мне. — И сам объясняю его заключенным. Устав предписывает, например, абсолютную тишину. Но если бы они буквально соблюдали полную тишину, то все стали бы либо идиотками, либо сумасшедшими. Я думаю, я обязан думать, что ведь не этого добивается устав. Я им говорю: «Устав предписывает вам соблюдать тишину. Что это значит? Это значит, что надзирательницы не должны вас слышать. Если вас услышат, вы будете наказаны; если не услышат, вас не в чем будет упрекнуть. Я не могу привлекать вас к ответу за ваши мысли. Если ваши разговоры произведут не больше шума, чем ваши мысли, я не буду привлекать вас к ответу за ваши разговоры». И, предупрежденные таким образом, они приучаются разговаривать как бы беззвучно. Они не сходят с ума, и устав соблюден.
Я спросил, одобряет ли вышестоящее начальство такое толкование устава.
Он ответил, что инспекторы часто делали ему замечания, но тогда он вел их к наружной двери и говорил: «Видите эту решетку? Она деревянная. Будь здесь мужчины, через неделю ни одного бы не осталось. Женщины не помышляют о побеге. Но все же надо остерегаться и не приводить их в ярость. Уже сам тюремный режим неблагоприятен для их физического и морального состояния. Я отказываюсь отвечать за них, если будет введена еще и пытка молчанием».