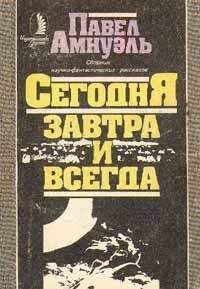Франц Кафка - Замок
Хотя он и стал говорить (он говорил уже не так отчетливо, как раньше, он раньше почти что слишком отчетливо говорил), что ему бы нужно еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он бы уже все узнал, а теперь все пропадет зря, все сорвется только из-за денег и так далее, но по его тону, по тому, как он это говорил, было видно, что во все это он не верит. К тому же у него сразу вдруг появились новые планы. Раз ему не удалось доказать вину и вследствие этого официальным путем он дальше продвинуться не может, то он должен заняться исключительно просьбами и приступать с ними непосредственно к чиновникам. Среди них наверняка есть такие, у которых доброе, жалостливое сердце, к голосу которого они хотя и не могут прислушиваться на службе, но вне службы, вероятно, могут, если их застать врасплох в подходящий момент.
Тут К., до сих пор слушавший Ольгу совсем отрешенно, прервал рассказ вопросом:
— А по-твоему, это неправильно?
Хотя это и должно было стать ясно из дальнейшего рассказа, но он хотел получить ответ сразу.
— Нет, — ответила Ольга, — о жалости или о чем-то подобном вообще не может быть речи. Как мы ни были молоды и неопытны, мы это знали — и отец, естественно, тоже знал, но он забыл это, как и почти все остальное. Он придумал себе такой план: встать на дороге недалеко от Замка, там, где мимо проезжают чиновники, и, если повезет, изложить свою просьбу о прощении. План, откровенно говоря, совсем бессмысленный — даже если бы и произошло невозможное и просьба действительно достигла ушей какого-нибудь чиновника. Разве какой-то один чиновник может прощать? В лучшем случае такой вопрос могли бы решить инстанции в целом, но, видимо, даже и они не могут прощать, — только судить. И вообще, разве какой-то чиновник, даже если он выйдет из своей кареты и пожелает заняться этим делом, сможет составить себе о нем представление по тому, что пробормочет ему отец, бедный, усталый, состарившийся человек? Чиновники очень образованны, но все же — только односторонне, по своей специальности чиновник с одного слова сразу схватывает всю цепь рассуждений, но что-нибудь из области другого отдела ему можно объяснять часами, и он, возможно, будет вежливо кивать, но не поймет ни слова. Все это, конечно, само собой понятно, ведь только попытайся даже мелкий служебный вопрос, какой-нибудь тебя же касающийся ничтожный пустяк, который чиновник решает одним пожатием плеч, только попытайся разобраться в нем до основания — и тебе хватит дела на всю жизнь, и до конца не дойдешь. Но даже если бы отец и попал на компетентного чиновника, тот все равно ничего не смог бы решить, не подняв дела, тем более — на дороге; он ведь и не может прощать, он может только решать дело в официальном порядке и для этого опять-таки указать только официальный путь, но именно на этом пути отцу уже полностью не удалось ничего достичь. Как все это у отца должно было далеко зайти, если с таким новым планом он собирался куда-то пробиться! Да если б хоть какая-то, пусть даже самая ничтожная возможность такого рода существовала, так дорога там кишела бы просителями, но поскольку речь тут идет о невозможном, и это уже в самых младших классах вдалбливают каждому школьнику, то там совершенно пусто. Возможно, это тоже укрепило в отце его надежду; он находил для нее пищу во всем. А это ему очень требовалось: ведь в здравом рассудке человек вообще и пускаться бы не стал в такие сложные рассуждения, а с одного взгляда ясно увидел бы невозможное. Когда чиновники едут в деревню или обратно в Замок, это совсем не увеселительные поездки, и в деревне, и в Замке их ждет работа, и едут они поэтому с огромной скоростью. И им даже в голову не придет выглядывать в окно кареты и искать на дороге просителей, ведь кареты загружены актами, над которыми чиновники трудятся.
— Но я, — возразил К., — видел изнутри сани одного чиновника, там никаких актов не было.
В рассказе Ольги перед ним открылся такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться и не прикоснуться к нему своими маленькими приключениями, чтобы надежнее убедиться как в его существовании, так и в своем собственном.
— Возможно, — сказала Ольга, — но тогда это еще хуже, тогда, значит, у чиновника такие важные дела, что папки слишком ценны или слишком объемисты, чтобы можно было взять их с собой; такие чиновники приказывают тогда мчаться галопом. В любом случае для отца никакого времени остаться не может. И кроме того, к Замку есть несколько подъездов. Иногда в моде один, и тогда большинство ездит там, иногда — какой-нибудь другой, тогда все устремляются туда. По какому правилу происходит эта смена, еще не выяснено. Иногда в восемь часов утра все едут по одной дороге, через полчаса — тоже все — по какой-то другой, через десять минут — уже по какой-то третьей, через полчаса, может быть, — снова по первой и так потом и ездят там целый день, но каждый миг может произойти какое-то изменение. Правда, возле деревни все подъездные дороги соединяются, но там уже все кареты мчатся, тогда как вблизи Замка скорость все-таки немного умереннее. И как нет закономерности и нельзя указать порядка выездов в смысле дорог, так же — и с количеством карет. Часто бывают, например, такие дни, когда вообще ни одной кареты не увидишь, а потом они опять едут одна за другой. И вот после всего этого представь себе нашего отца. В лучшем своем костюме — скоро он будет у него единственным — каждое утро выходит он из дому, напутствуемый нашими пожеланиями удачи. Он берет с собой маленький значок пожарной команды (который он сохранил вообще-то не по праву), чтобы приколоть его за деревней; в самой деревне он боится его показывать, хотя значок такой маленький, что с двух шагов его почти не видно, — но отец считает, что он годится даже для того, чтобы привлечь внимание проезжающих мимо чиновников. Недалеко от подъезда к Замку есть одно коммерческое садоводство, которое принадлежит некоему Бертуху, он поставляет в Замок овощи, — там, на узком каменном цоколе садовой решетки, отец и выбрал себе место. Бертух терпел это, потому что он раньше был дружен с отцом и к тому же принадлежал к самым верным его клиентам: у него немного покалечена нога, и он считал, что только отец может сделать ему подходящий сапог. И вот отец сидел там день за днем, была хмурая дождливая осень, но он не обращал никакого внимания на погоду; утром в определенный час он брался за ручку двери и кивал нам на прощание, вечером он приходил (казалось, что с каждым днем он все больше горбился) насквозь промокший и валился куда-нибудь в угол. Первое время он рассказывал нам о своих маленьких происшествиях — что, скажем, Бертух из сострадания и по старой дружбе бросил ему через решетку одеяло, или что в одной из проезжавших мимо карет он, кажется, узнал того или иного чиновника, или что его там уже опять узнал один кучер и в шутку хлестнул вожжами. Но потом он перестал об этом рассказывать, очевидно, он уже не надеялся хоть чего-то там достичь, он уже только считал своим долгом, своей безрадостной обязанностью ходить туда и проводить там весь день. Тогда и начались его ревматические боли; приближалась зима, выпал первый снег — у нас зима наступает очень рано; ну вот он и сидел то на мокрых от дождя камнях, то на снегу. Ночью он стонал от боли и утром иногда бывал в нерешительности, идти ли ему, но потом все-таки перебарывал себя и шел. Мать висла на нем, не хотела отпускать, и он, видимо напуганный тем, что члены его уже не слушались, позволял ей идти с ним, так заболела и мать. Мы часто бывали у них, приносили еду или просто приходили проведать, или пытались убедить их вернуться домой; сколько раз мы видели, как они сидят там, бессильно прислонившись друг к другу, на этом узком приступке, съежившись под тонким одеялом, которое их едва прикрывало, а вокруг — ничего, кроме серого снега и серого тумана, ни вблизи ни вдали, и за весь день — ни одного человека или кареты… если б ты видел, К., если б ты видел! Так продолжалось до того утра, когда отец уже не смог спустить с кровати негнущиеся ноги; это было ужасно грустно, он немного бредил в жару, и ему казалось, что он видит, как в этот самый миг наверху у Бертуха остановилась карета, вышел чиновник, обежал взглядом решетку в поисках отца и, качая головой и сердясь, снова возвратился в карету. Отец в это время так кричал, словно хотел отсюда привлечь внимание чиновника наверху и объяснить ему, как невиновен он в своем отсутствии. И это было долгое отсутствие: больше он вообще туда не возвращался, недели напролет он был вынужден оставаться в постели. Амалия взяла на себя все: обслуживание, уход, лечение — и, в сущности, продолжает это с перерывами до сегодняшнего дня. Она знает целебные травы, успокаивающие боль, ей почти не требуется сна, она никогда не пугается, ничего не боится, ни разу не выказала нетерпения, она выполняла для родителей всю работу; в то время как мы, не в силах чем-либо помочь, лишь беспокойно толклись вокруг, она, что бы ни случилось, оставалась холодна и спокойна. Когда же самое худшее миновало и отец, с осторожностью и поддерживаемый с двух сторон, уже снова мог выбираться из кровати, Амалия тут же отстранилась и оставила его нам.