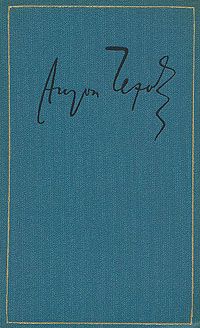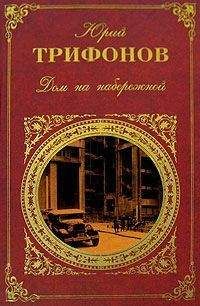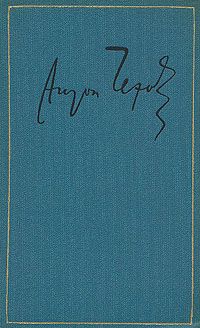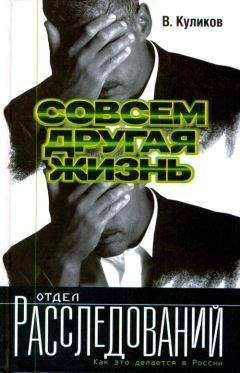Антон Чехов - Рассказы. Повести. 1892-1894
Она говорила с большим чувством. Ему почему-то вдруг пришло в голову, что в течение лета он может привязаться к этому маленькому, слабому, многоречивому существу, увлечься и влюбиться, – в положении их обоих это так возможно и естественно! Эта мысль умилила и насмешила его; он нагнулся к милому, озабоченному лицу и запел тихо:
Онегин, я скрывать не стану,
Безумно я люблю Татьяну…[55]
Когда пришли домой, Егор Семеныч уже встал. Коврину не хотелось спать, он разговорился со стариком и вернулся с ним в сад. Егор Семеныч был высокого роста, широк в плечах, с большим животом и страдал одышкой, но всегда ходил так быстро, что за ним трудно было поспеть. Вид он имел крайне озабоченный, все куда-то торопился и с таким выражением, как будто опоздай он хоть на одну минуту, то всё погибло!
– Вот, брат, история… – начал он, останавливаясь, чтобы перевести дух. – На поверхности земли, как видишь, мороз, а подними на палке термометр сажени на две повыше земли, там тепло… Отчего это так?
– Право, не знаю, – сказал Коврин и засмеялся.
– Гм… Всего знать нельзя, конечно… Как бы обширен ум ни был, всего туда не поместишь. Ты ведь всё больше насчет философии?
– Да. Читаю психологию, занимаюсь же вообще философией.
– И не прискучает?
– Напротив, этим только я и живу.
– Ну дай бог… – проговорил Егор Семеныч, в раздумье поглаживая свои седые бакены. – Дай бог… Я за тебя очень рад… рад, братец…
Но вдруг он прислушался и, сделавши страшное лицо, побежал в сторону и скоро исчез за деревьями, в облаках дыма.
– Кто это привязал лошадь к яблоне? – послышался его отчаянный, душу раздирающий крик. – Какой это мерзавец и каналья осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!
Когда он вернулся к Коврину, лицо у него было изнеможенное, оскорбленное.
– Ну что ты поделаешь с этим анафемским народом? – сказал он плачущим голосом, разводя руками. – Степка возил ночью навоз и привязал лошадь к яблоне! Замотал, подлец, вожжищи туго-натуго, так что кора в трех местах потерлась. Каково! Говорю ему, а он – толкач толкачом и только глазами хлопает! Повесить мало!
Успокоившись, он обнял Коврина и поцеловал в щеку.
– Ну, дай бог… дай бог… – забормотал он. – Я очень рад, что ты приехал. Несказанно рад… Спасибо.
Потом он все тою же быстрою походкой и с озабоченным лицом обошел весь сад и показал своему бывшему воспитаннику все оранжереи, теплицы, грунтовые сараи и свои две пасеки, которые называл чудом нашего столетия.
Пока они ходили, взошло солнце и ярко осветило сад. Стало тепло. Предчувствуя ясный, веселый, длинный день, Коврин вспомнил, что ведь это еще только начало мая и что еще впереди целое лето, такое же ясное, веселое, длинное, и вдруг в груди его шевельнулось радостное молодое чувство, какое он испытывал в детстве, когда бегал по этому саду. И он сам обнял старика и нежно поцеловал его. Оба, растроганные, пошли в дом и стали пить чай из старинных фарфоровых чашек, со сливками, с сытными, сдобными кренделями – и эти мелочи опять напомнили Коврину его детство и юность. Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нем впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо.
Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза, чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия.
II
В деревне он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку и, когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять сядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись; если нечаянно уснет днем на полчаса, то уже потом не спит всю ночь и после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя бодро и весело.
Он много говорил, пил вино и курил дорогие сигары. К Песоцким часто, чуть ли не каждый день, приезжали барышни-соседки, которые вместе с Таней играли на рояле и пели; иногда приезжал молодой человек, сосед, хорошо игравший на скрипке. Коврин слушал музыку и пение с жадностью и изнемогал от них, и последнее выражалось физически тем, что у него слипались глаза и клонило голову на бок.
Однажды после вечернего чая он сидел на балконе и читал. В гостиной в это время Таня – сопрано, один из барышень – контральто и молодой человек на скрипке разучивали известную серенаду Брага.[56] Коврин вслушивался в слова – они были русские – и никак не мог понять их смысла. Наконец, оставив книгу и вслушавшись внимательно, он понял: девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса. У Коврина стали слипаться глаза. Он встал и в изнеможении прошелся по гостиной, потом по зале. Когда пение прекратилось, он взял Таню под руку и вышел с нею на балкон.
– Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда, – сказал он. – Не помню, вычитал ли я ее откуда или слышал, но легенда какая-то странная, ни с чем не сообразная. Начать с того, что она не отличается ясностью. Тысячу лет тому назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… За несколько миль от того места, где он шел, рыбаки видели другого черного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. Этот второй монах был мираж. Теперь забудьте все законы оптики, которых легенда, кажется, не признает, и слушайте дальше. От миража получился другой мираж, потом от другого третий, так что образ черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в Мидии, то на Дальнем Севере… Наконец, он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе или на какой-нибудь звезде Южного Креста. Но, милая моя, самая суть, самый гвоздь легенды заключается в том, что ровно через тысячу лет после того, как монах шел по пустыне, мираж опять попадет в земную атмосферу и покажется людям. И будто бы эта тысяча лет уже на исходе… По смыслу легенды, черного монаха мы должны ждать не сегодня – завтра.
– Странный мираж, – сказала Таня, которой не понравилась легенда.
– Но удивительнее всего, – засмеялся Коврин, – что я никак не могу вспомнить, откуда попала мне в голову эта легенда. Читал где? Слышал? Или, быть может, черный монах снился мне? Клянусь богом, не помню. Но легенда меня занимает. Я сегодня о ней целый день думаю.
Отпустив Таню к гостям, он вышел из дому и в раздумье прошелся около клумб. Уже садилось солнце. Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный, раздражающий запах. В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки.
По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток. На угрюмых соснах кое-где еще отсвечивали последние лучи заходящего солнца, но на поверхности реки был уже настоящий вечер. Коврин по лавам перешел на другую сторону. Перед ним теперь лежало широкое поле, покрытое молодою, еще не цветущею рожью. Ни человеческого жилья, ни живой души вдали, и кажется, что тропинка, если пойти по ней, приведет в то самое неизвестное загадочное место, куда только что опустилось солнце и где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря.
«Как здесь просторно, свободно, тихо! – думал Коврин, идя по тропинке. – И кажется, весь мир смотрит на меня, притаился и ждет, чтобы я понял его…»
Но вот по ржи пробежали волны, и легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, – зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий черный столб. Контуры у него были неясны, но и первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился все меньше и ясное. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать…
Монах в черной одежде, с седою головой и черными бровями, скрестив на груди руки, пронесся мимо… Босые ноги его не касались земли. Уже пронесясь сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым.