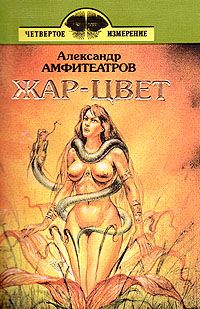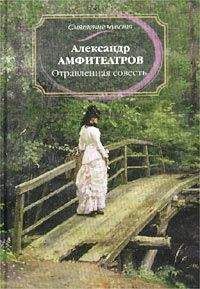Александр Амфитеатров - Жар-цвет
— Какие ж они, Тимош, из себя?
— А як пан и пани, в панской одежде, только с лица черны и муруги… Как молния блеснула, мне их и осветило… Стоят над травою вот этак от земли — и смотрят на палец во все глаза… А потом — кругом, кругом, закрутились вихрем и пропали в саду.
Мальчишку, конечно, смутили тени кустов — еще диво, как при блеске молнии дикие очертания и угольные пятна их померещились Тимошу только за двух чертей: их хватило бы на целый шабаш…
19маяПаклевецкий решительно не может равнодушно видеть мало-мальски порядочной вещи: сейчас начинает клянчить — подари да подари… То просил отдать ему "Natura Nutrix", теперь влюбился в откопанные вчера ручки… А еще говорят, бессребреник: не берет денег с больных, кроме самых богатых панов… Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с холопами. Говорят:
— Пан Паклевецкий — доктор, что греха на душу брать, каких и в Киеве нет: захочет — и мертвого из домовины поднимет. Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем, кого он лечил, потом не повезло; у Охрима Мокрогуза хата сгорела, у Панька дочь байструка родила, у кого злодей камору обчистил, у кого корова пала али коней свели… И бес его знает, какой он веры: не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу…
Я пересказал этот разговор Паклевецко-му. Он хохочет по обыкновению.
— Ишь, хамы! Подметили-таки мои неудачи. В самом деле, меня преследует какой-то злой рок: со всеми моими больными приключаются неприятные сюрпризы и скандалы…
— Пока еще не испытываю на себе вашего вредного влияния, — пошутил я, — и со мною ничего сюрпризного не случилось…
— Да ведь вы у меня еще не лечились. А впрочем… ба-ба-ба!
Паклевецкий лукаво подмигнул.
— Как же ничего не случилось? А разве вы еще не влюблены в панну Ольгусю?
Вот тебе раз! О провинция, всевидящая, всезнающая, вездесущая! а главное — всесплетничающая!
— Разумеется, нет… Да откуда вы знаете, что мы знакомы?
— Слухом земля полнится… Я даже знаю, что пан ксендз Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись и теперь по целым дням ломает над ней свою мудрую лысую голову…
— А помните, доктор, как мы с вами терялись в догадках о розовой даме, которую я встретил?
— Как же, как же… И конечно, оказалось, что это была панна Ольгуся?
— В том-то и дело, что нет. Я встретил ее опять…
Доктор выслушал меня с притворною рассеянностью, я очень хорошо заметил, как серьезно заинтересовали его мои слова.
— Таинства Удольфского замка, сударь вы мой! — сказал он.
— Уж именно таинства! — засмеялся я. — Вон мой Тимош клянется даже, будто третьего дня во время грозы у нас по парку гуляли черти…
— Гм… смотрите: не воры ли?
— Воровать-то в здановском палаце нечего: все ценности повывезены… а до книг, картин, статуй в нашей округе нет охотников.
— Не скажите: я, например, с наслаждением стянул бы у вас эти ручки…
Вот привязался-то!
А кстати отметим, благо к слову пришлось: ведь ксендз-то Август в самом деле молодец, недаром хвастался своим мастерством по тайнописи! Разобрал-таки кусочек рукописи — она оказалась французскою. Сегодня прислал мне перевод… Дикое что-то: "цвел 23 июня 1823… цвел 23 июня 1830… оба раза не мог воспользоваться… глупо… страшно… больше не увижу… знаю, что скоро смерть — не дождусь… а мог бы… сын не верит… быть может, кто-нибудь из потомк…" — дальше тайнопись ведется, вероятно, на каком-нибудь языке восточного происхождения: подставляя по найденному ключу французские буквы, ксендз получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных… И только на одной странице, с краю, четко написан ряд цифр: 1823, 1830,1837,1844, 1851,1858, 1865,1872,1879,1886,1893,1900… Последовательная разница между цифрами — 7… По всей вероятности, прадед предсказывает какое-нибудь событие, должное повториться каждые семь лет… "Цвел 23 июня 1823 года"… Кто цвел? Кактусы, помнится, бывают семилетние…Почти всю ночь не спал: читал записки тетки Ядвиги… Какое несчастное существо! Вплетаю этот любопытный документ в дневник мой, чтобы не потерялся, как другие летописи рода нашего, съеденные мышами и плесенью в сырых кладовках…
* * *Постойте, дайте припомнить… Я вам все расскажу, все без утайки — только не торопите меня, дайте хорошенько припомнить, как это началось…
Простите, если мои слова покажутся вам странными и дикими. С меня нельзя много требовать; вы ведь знаете: мои родные объявили меня сумасшедшею и лечат меня, лечат… без конца лечат! Возили меня и к Кожевникову в Москву, и к Шарко в Париж, пользовали лекарствами, пользовали душами, инъекция^ ми, гипнотизмом… чем только не пользовали! Наконец, всем надоело возиться со мной, и вот посадили меня сюда — в эту скучную больницу, где вы меня теперь видите. Здесь ничего себе, довольно удобно; только зачем эти решетки на окнах? За границею лучше. Там — no restraint[63]. А у нас — тюрьма. Зачем? Я не убегу, мне все равно, где жить: здесь ли, на свободе ли — я всюду одинаково несчастна, а, между тем, вид этих бесполезных решеток так мучит меня, дразнит, угнетает…Может быть, мои родные правы, и я в самом деле безумна — я не спорю. Мне даже хотелось бы, чтобы они были правы: то, что я переживаю, слишком тяжко… Я была бы счастлива сознавать, что моя жизнь — не действительность, а сплошная галлюцинация, вседневный бред, непрерывный ряд воплощений нелепой идеи, призраков больного воображения. Но, к несчастью, память моя тверда, и я мыслю связно и отчетливо. Меня испытывали в губернском правлении: чиновники задавали мне формальные вопросы, и я отвечала им здраво, как следует. Только когда губернский предводитель спросил меня: помню ли я, как меня зовут, — мне стало смешно, Я подумала: ему ужасно хочется, чтобы я ответила какой-нибудь глупостью, хоть в чем-нибудь проявила свое безумие и на смех старику я сказала: меня зовут Марией Стюарт.
Разумеется, я не Мария Стюарт, а просто Ядвига Гичовская, младшая дочь графа Станислава Гичовского, Лета свои я затрудняюсь сказать. Видите ли, когда со мною началось это, мне было шестнадцать лет, но с тех пор дни и ночи летят таким порывистым беспорядочным вихрем… я совсем потеряла в них счет. Иногда мне кажется, будто мое безумие продолжается целую вечность, иногда — что оно началось вчера.
Мой отец — известный человек на Литве. Близ Ковна у нас есть имение — богатое, хотя и запущенное. Мы ездим туда на лето и проводим два месяца в ветхой башне, где родились, жили и умирали наши деды и прадеды. Холопы зовут нашу башню замком, и точно — последний остаток роскошного здания, построенного в XVI веке знаменитым нашим предком, литовским коронным гетманом. Оно простояло два века; пожар и пороховой взрыв в погребах разрушили его в начале XIX столетия почти до основания.
Гетман умел выбрать место для своего замка — у подножия высокой лесистой горы, в крутом колене светлой речки. Вдоль по берегу, вправо и влево видны остатки древнего городища, низкие кирпичные стены с сохранившимися кое-где бойницами… Они сплошь обросли мхом, а из иных щелей и расселин поднялись молодые красивые березы и елки. Я, сестра моя Франя и наша гувернантка пани Эмилия любили бродить между развалинами. Они поднимаются от берега высоко по горе и завершаются на ее вершине тремя черными толстыми стенами: на одной и теперь еще можно разглядеть сквозь грязь и копоть остаток фрески — ангела с мечом. Вблизи стены валяется много могильных плит с латинскими надписями. На некоторых видны иссеченные кресты, на других короны и митры, а на иных даже грубые рельефные изображения людей в церковном облачении. Когда-то здесь стоял бернардинский монастырь, зависимый от нашего рода, покровительствуемый нами. Он упразднен в прошлом веке. Во время второго повстанья руины служили приютом для небольшой банды: поэтому русские пушки помогли времени в разрушительной работе над осиротелым зданием и сразу его покончили.
Как вы уже слышали, мне минуло шестнадцать лет. Я была очень хороша собою — не то, что теперь. Давно ли, кажется, мой отец, когда бывал в духе, клал на мою русую голову свои белые руки и декламировал с важностью знаменитые стихи нашего бессмертного поэта:
…Nad wszystkich ziem branki, milsze Laszki kochanki,
Wesolutkie jak mlode koteczki,
Lice bielsze od mleka, z czaina izesa powieka,
Oczi blyscza sie jak dwie gwiazdeczki[64]
А как-то на днях я посмотрела в зеркало: я ли это? Костлявое, зеленое, словно обглоданное, лицо; под глазами и на висках провалы, челюсти выдались: уши стали большие и бледные. Как я гадка!
Он довел меня до этого. Он — странное, непонятное существо: ни человек, ни демон, ни зверь, ни призрак… он. ежедневно налагающий на меня свою тяжелую руку; он, в чьей губительной власти моя душа и тело; он, кого я днем боюсь и ненавижу, а ночью люблю всею доступной моему существу страстью; он, неумолимо ведущий меня к скорой ранней смерти… Ах! да что мне болезнь, безумие, смерть! Никакой ужас видимого мира не испугает меня. Все, что люди зовут несчастьем, кажется мне и слабым и ничтожным, когда я сравню с тайнами моей жизни… А все-таки порою я со стыдом уверяюсь, что тайны эти дороги мне, как сама я, и лучше мне с жизнью расстаться — только бы не с ними! Индусу мило погибать под тяжелыми колесами гордой повозки божественного Яггернаута: моя беспощадная судьба катит на меня грохочущую колесницу смерти, управляемую Им, и у меня нет ни силы, ни воли посторониться, и я со сладострастным трепетом жду момента, когда пройдут по мне губительные колеса.