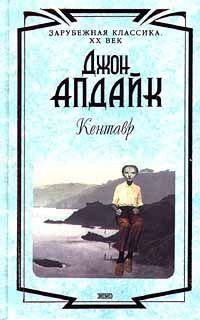Джон Апдайк - Кентавр
– Никак!
Отец кричит:
– Ну ее к черту! Вылезай!
Питер послушно встает, стряхивает с себя снег. Они с отцом растерянно смотрят друг на друга.
– Не выходит, – говорит он, как будто это не ясно само собой.
Отец говорит:
– Ты справлялся куда лучше меня. Садись, поедем ночевать в Олтон. Семь бед – один ответ.
Они кладут цепи в багажник и пытаются опустить домкрат. Но даже этот путь к отступлению отрезан. Рычажок, который должен менять направление домкрата, беспомощно болтается на своей оси. Каждый поворот рукоятки поднимает машину все выше. Снег летит в лицо; вой ветра рвет барабанные перепонки; терпеть больше нет сил. Кажется, сама метель всей своей шуршащей, колеблющейся тяжестью повисла на этом проклятом испорченном домкрате.
– Сейчас я ему покажу, – говорит Колдуэлл. – Отойди-ка, сынок.
Он залезает в машину, заводит мотор и подает машину вперед. На миг рейка домкрата сгибается в дугу, и Питер ждет, что она, как стрела, полетит в метель. Но сам бампер не выдерживает нагрузки, и машину вдруг бросает на рессоры с таким звуком, как будто ломаются ледяные сосульки. Полукруглая впадина по нижнему краю заднего бампера навсегда останется на память об этой ночи. Питер собирает части домкрата, бросает их в багажник и садится рядом с отцом.
Пользуясь тем, что машину заносит, Колдуэлл быстро разворачивает ее и направляет в сторону Олтона. Но с тех пор, как они проехали по этой дороге, прошел час; снегу выпало еще на дюйм, и он не укатан, так как движение совсем прекратилось. Едва заметный подъем из низины за Пилюлей, такой пологий, что обычно, когда он проносится под автомобилем, его просто не замечаешь, теперь оказывается крутым и неприступным. Задние колеса непрестанно буксуют. Прозрачные щели в переднем стекле еще больше суживаются, покрываются пушистым налетом; небесные закрома, из которых густо сеялся снег, теперь совсем распахнулись. Трижды «бьюик» рвется вперед, пытаясь подняться на пологий склон, и всякий раз увязает в снегу. Наконец Колдуэлл дает полный газ, и задние колеса с визгом заносят машину в снежную целину, за обочину. Как раз на этом месте неглубокий овраг. Колдуэлл включает первую скорость и пытается вытащить машину, но снег цепко держит ее в своих призрачных объятиях. На губах у Колдуэлла выступает серебристая пена. В отчаянии он включает заднюю передачу, и машина, рванувшись назад, окончательно застревает. Он глушит мотор.
И среди треволнений наступает мирная тишина. По крыше машины пробегает легкий шелест, как будто на нее сыплют песок. Перегретый мотор тихонько постукивает под капотом.
– Надо идти пешком, – говорит Колдуэлл. – Вернемся в Олинджер и переночуем у Гаммелов. Это меньше трех миль. Дойдешь?
– Придется, – говорит Питер.
– Вот несчастье, на тебе даже галош нет.
– На тебе тоже.
– Ну, мне-то все равно, я человек конченый. – Помолчав, он добавляет: Не можем же мы здесь остаться.
– К черту, – говорит Питер. – Знаю. Все знаю, хватит говорить об этом. Хватит вообще говорить. Пойдем.
– Будь твой отец хоть немного мужчиной, мы одолели бы этот подъем.
– И застряли бы еще где-нибудь. Ты не виноват. Никто не виноват, господь бог виноват. Сделай одолжение, помолчи.
Питер выходит из машины и некоторое время идет впереди отца. Они шагают по колеям, оставленным их «бьюиком», вверх по холму, мимо еврейского кладбища. Питеру трудно ставить одну ногу прямо перед другой, как, говорят, ходят индейцы. Ветер заставляет его сутулиться. Здесь, под защитой сосен, он дует не очень сильно, но настойчиво, шевелит волосы и трогает голову Питера ледяными пальцами. Кладбище отделено от дороги серой каменной оградой; у каждого торчащего из снега камня выросла белая борода. Где-то под непроглядной пеленой уютно лежит в своем склепе с колоннами Эб Кон. И это почему-то успокаивает Питера. Ему кажется, что и его "я" тоже надежно укрыто под костяным куполом черепа.
На равнине за кладбищем сосны редеют и ветер лютует, снова и снова пронизывая его насквозь. Питер становится совсем прозрачным – скелет из мыслей. С любопытством, словно бы со стороны, он смотрит, как его ноги, покорно, будто вьючный скот, бредут по сыпучему снегу; несоразмерность между длиной шагов и расстоянием до Олинджера так велика, что впереди у Питера целая бесконечность, неограниченный досуг. Он пользуется этим досугом и раздумывает о крайнем физическом напряжении. В этом явлении есть резкая простота. Сначала пропадают все мысли о прошлом и будущем, потом немеют чувства, переставая воспринимать окружающий мир. И, наконец, отключаются конечности – руки, ноги, пальцы. Если напряжение не исчезает, если упрямое стремление к чему-то лучшему еще живет в человеке, перестают ощущаться кончик носа, подбородок и сама голова; они не исчезают совершенно, а, так сказать, удаляются за пределы того ограниченного, минимального пространства, удивительно плотного и замкнутого, которое одно остается от некогда обширного и гордого царства человеческого "я". И Питер словно откуда-то издалека видит, как его отец, теперь идущий рядом с ним, прикрывая его своим телом от ветра, снимает с себя вязаную шапчонку и натягивает ее на застывшую голову сына.
8
Любовь моя, слушай. Ты не спишь? Впрочем, неважно. В Западном Олтоне был городской музей, окруженный великолепным парком, где на каждом дереве висела табличка с названием. Черные лебеди, охорашиваясь, плавали парами по мутному озерцу, образованному у запруды неглубоким ручьем, который назывался здесь Линэйп. В Олинджере его называли Тилден-крик, но ручей был тот же самый. По воскресеньям мы с мамой часто ходили в музей, эту единственную доступную нам сокровищницу культуры, по тихой, тенистой дорожке, которая тянулась вдоль ручья от одного города до другого. Это пространство около мили, тогда еще не застроенное, было остатком прошлого. Мы пересекали старый ипподром, заброшенный и поросший травой, проходили мимо нескольких ферм с домами из плитняка – около каждого, как ребенок около матери, жалась беленькая пристройка, тоже из плитняка. Быстро перейдя шоссе, которое разветвлялось здесь на три дороги разной ширины, мы оказывались в узкой аллее музейного парка, где нас окружал совсем уже древний мир, Аркадия. Утки и лягушки наперебой хрипло и ликующе кричали на заболоченном озере, проглядывавшем сквозь заросли вишен, лип, акаций и диких яблонь. Мама знала все растения и всех птиц, она называла их мне, но я тут же их забывал, пока мы шли по усыпанной гравием дорожке, которая кое-где расширялась, образуя маленькие круглые площадки с бассейнами, где купались птички, и скамьями, так что порой мы вспугивали обнявшуюся влюбленную парочку, и они смотрели нам вслед потемневшими, круглыми глазами. Один раз я спросил маму, что они делают, и она ответила со странной нежностью: «Вьют гнездышко».
А потом на нас веяло холодком с озера, слышались резкие солоноватые крики лебедей и сквозь легендарную черную листву высокого бука показывался бледно-желтый карниз музея, а над ним – сверкавшая на солнце стеклянная крыша с фисташково-зелеными рамами. Мы проходили через автомобильную стоянку, вызывавшую у меня чувство зависти и стыда, потому что у нас в то время автомобиля не было, шли по дорожке для пешеходов, среди детишек, которые несли пакетики с хлебными крошками для голубей, поднимались по широкой лестнице, где нарядные, по-летнему легко одетые люди щелкали фотоаппаратами и жевали бутерброды, развернув целлофановую обертку, и входили в высокий, как храм, вестибюль музея. Вход был бесплатный. В подвальном этаже летом занимался кружок любителей природы, тоже бесплатный. Один раз мама предложила мне пойти туда. На первом занятии все наблюдали, как змея в стеклянном ящике заглатывает живьем пищащую полевую мышь. А на второе занятие я уже не пошел. В нижнем этаже была выставка для школьников – застывшие чучела и древние эскимосские, китайские и полинезийские изделия, витрина за витриной, строго классифицированные, герметически закрытые. Была там еще безносая мумия, и вокруг нее всегда толпились люди. В детстве этот этаж внушал мне страх. Всюду смерть; кто подумал бы, что ее может быть так много? Второй этаж был отведен произведениям искусства, там все больше висели картины местных художников, хоть и неуклюжие, странные и не правильные, но сиявшие наивностью и надеждой – надеждой схватить и навсегда удержать нечто, возникающее всякий раз, как кисть касается полотна. А еще там были бронзовые фигурки индейцев и всяких богов, а в центре большого овального зала, у лестницы, посреди бассейна с черными краями, стояла обнаженная зеленая женщина в натуральную величину. Это был фонтан. Женщина держала у губ бронзовую раковину морского гребешка, и ее красивые губы были приоткрыты, подставлены струе, но фонтан был устроен так, что вода все время лилась через край раковины мимо ее губ. Вечно ожидающая, с маленькой грудью и непокорными зеленоватыми локонами, приподнявшись на носке одной ноги, она держала раковину в дюйме от лица, которое казалось спящим: веки опущены, губы раскрыты. В детстве мне было жалко смотреть на муки ее воображаемой жажды, и я становился так, чтобы видеть неизменный просвет шириной в дюйм, не дававший ее губам припасть к воде. Вода, как тонкая, трепещущая, жемчужно-зеленая лента, оторвавшись от раковины, завивалась спиралью и косо падала в бассейн с легким неумолчным плеском, и брызги иногда, под действием какой-то неуловимой силы, долетали до края бассейна, как снежинки, холодно покалывая мою руку, лежавшую на черном мраморе. Ее кроткое терпеливое ожидание, вечно неудовлетворенное, казалось мне невыносимым, и я убеждал себя, что по ночам, когда темнота окутывает мумию, и полинезийские маски, и орлов со стеклянными глазами, ее тонкая бронзовая рука делает едва уловимое движение, и она пьет. Я представлял себе, как в большом овальном зале, освещенном луной сквозь стеклянную крышу, на миг смолкает журчание воды. И на этом испытанном тогда чувстве чувстве, что с приходом ночи прозрачная лента воды исчезает и журчание ее смолкает, – я кончаю свой рассказ.