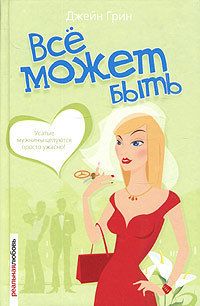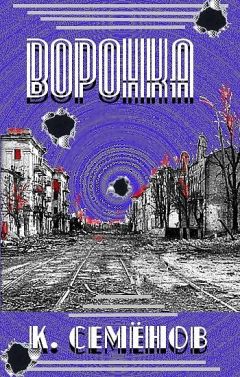Джозеф Конрад - Морские повести и рассказы
— …Он говорит… все китайцы… швыряет… Нужно разузнать., в чем дело.
Как только ураган обрушился на судно, на палубе нельзя было оставаться, и матросы, ошеломленные и перепуганные, приютились в левом проходе под мостиком. Дверь на корму они заперли. В проходе было очень темно, холодно и страшно. При каждом тяжелом толчке судна они стонали в темноте, а снаружи ударяли тонны воды, словно пытаясь проникнуть к ним сверху. Боцман обратился к матросам с суровой речью, но, как говорил он впоследствии, таких неразумных людей ему еще никогда не приходилось встречать. Там им было не так уж плохо, от непогоды они были укрыты, и никакой работы от них не требовалось; и все же они только и делали, что ворчали да жаловались, как малые ребята. Наконец один из них сказал, что дело обстояло бы не так плохо, будь здесь хоть какой-нибудь свет, чтобы можно было видеть дальше своего носа. Он заявил, что сойдет с ума, если будет лежать здесь в темноте и ждать, когда проклятая калоша пойдет ко дну.
— Чего же ты не выйдешь наружу и не покончишь с этим раз и навсегда? — накинулся на него боцман.
Это вызвало бурю проклятий. На боцмана со всех сторон посыпались упреки. Они как будто обижались на то, что им не преподносят сию же минуту лампы. Они хныкали, требовали лампу: если уж умирать, так при свете. И хотя нелепость их ругани была очевидна, раз не было надежды добраться до помещения, где хранились лампы, — оно находилось на носу, — все-таки боцман сильно расстроился. Он считал, что они зря придираются к нему. Так он им сказал, чем вызвал взрыв возмущения. Поэтому он искал прибежища в молчании, исполненном горечи. Их воркотня, вздохи и ругань очень ему надоели, но тут он вспомнил, что в межпалубном пространстве находятся шесть круглых ламп, и кули нисколько не пострадают, если забрать у них одну лампу.
На «Нянь-Шане» была угольная яма, расположенная поперек судна; иногда туда помещали груз, но в данный момент она была пуста. С передним межпалубным пространством она сообщалась железной дверью, а ее люк выходил в проход под мостиком. Таким образом, боцман мог проникнуть в межпалубное пространство, не выходя на палубу; но, к величайшему своему изумлению, он обнаружил, что никто не желает помочь ему снять крышку с люка. Он все-таки стал нащупывать ее, но один из матросов, лежавший у него на дороге, отказался сдвинуться с места.
— Да ведь я же хочу раздобыть вам проклятый свет, сами же просили! — чуть ли не умоляюще воскликнул он.
Кто-то посоветовал ему убираться и засунуть голову в мешок. Боцман пожалел, что не узнал голоса и в темноте не мог разглядеть, кто это крикнул, иначе — потонет судно или нет, а уж он бы свернул шею этому негодяю. Тем не менее он решил доказать им, что может достать свет, хотя бы ему пришлось из-за этого умереть.
Качка была настолько сильна, что всякое движение было сопряжено с опасностью. Даже лежать ничком было делом нелегким. Он едва не сломал себе шею, прыгая в угольную яму. Он упал на спину и стал беспомощно кататься из стороны в сторону в опасной компании с тяжелым железным ломом, — быть может, с ломиком кочегара, — кем-то здесь оставленным. Лом действовал ему на нервы, словно это был дикий зверь; он не мог его видеть, так как в яме, осыпанной угольной пылью, была непроглядная тьма; но он слышал, как лом скользит и звякает, ударяясь то здесь, то там, и всегда по соседству с его головой. Казалось, он производил необычайный шум и ударял с такой силой, словно был величиной с хорошую балку моста. На это обратил внимание боцман, пока его швыряло от правого борта к левому и обратно, а он отчаянно цеплялся за гладкие стены, стараясь удержаться. Дверь в межпалубное пространство была неплотно пригнана, и внизу он увидел нить тусклого света.
Был он моряк и человек еще энергичный — и вскоре улучил удобный момент и поднялся на ноги; на свое счастье, он, поднимаясь, опустил руку на железный ломик и подхватил его. В противном случае ему пришлось бы все время опасаться, как бы эта штука не сломала ему ног или не повалила его снова на пол. Поднявшись, он сначала стоял неподвижно. Ему было не по себе; в кромешной тьме качка казалась совсем необычной, неожиданной, трудно было к ней приспособиться. На секунду он так растерялся, что не смел двинуться с места, боясь «новой атаки». Ему вовсе не хотелось разбиться вдребезги в этой угольной яме.
Два раза он ударился головой и слегка одурел. В ушах его еще звенели удары и звяканье железного ломика, и он крепче сжал кулак, желая доказать себе, что он тут, в его руке. Он смутно подивился, с какой ясностью слышны здесь, внизу, завывания бури. Казалось, в этой пустой яме что-то человеческое слышится в вое и визге, человеческое бешенство и страдание; звуки были пронзительные. Когда судно накренялось, раздавались удары, глухие тяжеловесные удары, словно какой-то громоздкий предмет, весом в пять тонн, метался по трюму. Но никаких громоздких предметов в трюме не было. Что-нибудь на палубе? — не может быть. Или за бортом? — Невозможно. Все это он обдумал быстро, отчетливо и точно, как моряк, и в конце концов все-таки недоумевал. Этот за глушенный шум доносился снаружи вместе с плеском воды, лив шейся на палубу над его головой. Был ли то ветер? Должно быть. Но сюда, вниз, шум ветра доносился, как рев обезумевшей толпы. И боцман вдруг тоже почувствовал странное желание увидеть свет — хотя бы утонуть при свете! — и тревожное стремление выбраться из этой ямы. Он откинул болт; тяжелая железная доска повернулась на петлях, и казалось — он распахнул дверь навстречу буре. Хриплый вой оглушил его: это был не ветер, а шум воды над головой, который придушили горловые пронзительные крики, сливавшиеся в отчаянный вопль. Он расставил ноги во всю ширину двери и вытянул шею. И прежде всего он увидел то, за чем пришел: шесть маленьких желтых язычков пламени, раскачивающихся в тусклом полумраке. Помещение было устроено, как рудничная шахта: посредине стояли подпирающие потолок столбы, над головой тянулись поперечные бимсы, уходящие во мрак, в бесконечность. С левой стороны смутно виднелась какая-то огромная глыба, напоминающая склеп. Все помещение, и предметы, и тени двигались, двигались непрерывно. Боцман вытаращил глаза: судно накренилось на правый борт, и неясная глыба — не то склеп, не то куча обвалившейся земли — испустила громкий вой.
Мимо со свистом пронеслись куски дерева. «Доски», — подумал он, несказанно испуганный, и втянул голову в плечи. У его ног, скользя на спине, пролетел человек; глаза его были широко раскрыты, он простирал руки в пустоту. Приблизился другой, подскакивая, словно сорвавшийся камень; голова его была зажата между ногами, руки стиснуты. Коса взметнулась вверх; человек попытался ухватить за колени боцмана, и из разжавшейся руки выпал и покатился к ногам боцмана белый диск. Он разглядел серебряный доллар и заорал от удивления. Шарканье босых ног, гортанные крики — и гора извивающихся тел, нагроможденных у левого борта, понеслась, инертная, скользящая, к правому борту и с глухим стуком ударилась об него. Крики смолкли. Над ревом и свистом ветра пронесся протяжный стон, и взору боцмана предстала одна сплошная масса, состоящая из голов и плеч, из голых ступней, дрыгающих в воздухе, поднятых кулаков и согнутых спин, из ног, кос и лиц.
— О, бог ты мой! — крикнул он в ужасе и захлопнул железную дверь, спасаясь от этого зрелища.
Вот с каким докладом явился он на мостик. Он не мог держать это при себе, а на борту корабля есть только один человек, с которым стоит поделиться своей заботой. Когда он вернулся в проход, матросы обругали его дураком. Почему он не принес этой лампы? Какое, черт подери, им дело до кули? А когда он вышел на палубу, все происходящее внутри судна по казалось ему ничтожным по сравнению с опасностью, грозящей пароходу.
Сначала он подумал, что пароход начал идти ко дну в тот самый момент, как он вышел. Трапы, ведущие на мостик, были смыты; но огромная волна, залившая ют, подняла его наверх. После этого ему пришлось некоторое время пролежать на животе, держась за рымболт; изредка он вбирал воздух в легкие и глотал соленую воду. Дальше он пополз на четвереньках, слишком перепуганный и потрясенный, чтобы возвращаться назад. Так он добрался до заднего отделения рулевой рубки. В этом сравнительно защищенном местечке он нашел второго помощника. Боцман был приятно удивлен, — у него создалось впечатление, будто все, находившиеся на палубе, давным-давно смыты за борт. Он с волнением спросил, где капитан.
Второй помощник лежал ничком, как злобный зверек под забором.
— Капитан? Отправился за борт, после того как мы по его вине попали в эту кашу. — И до первого помощника ему никакого дела не было… Еще один дурак. Никакого значения не имеет. Все равно рано или поздно очутится за бортом.
Боцман снова выполз наружу; по его словам, он почти не надеялся кого-нибудь найти, но ему хотелось поскорее убраться от «того человека». Он полз вперед, как изгнанник навстречу безжалостному миру. Вот почему он так обрадовался, найдя Джакса и капитана. Но то, что происходило в межпалубном пространстве, казалось ему теперь делом маловажным. Да и трудно было добиться того, чтобы тебя услышали. Все-таки он ухитрился сообщить, что китайцы катаются по полу вместе со своими сундучками, а он, боцман, поднялся наверх, чтобы донести об этом. Что же касается команды, то все в порядке. Затем, успокоенный, он уселся, обвив руками и ногами стойку телеграфа машинного отделения — чугунный толстый столб. Если этот столб смоет, тогда, размышлял он, и ему самому придет конец. О кули он больше не думал.