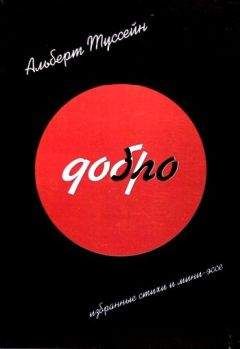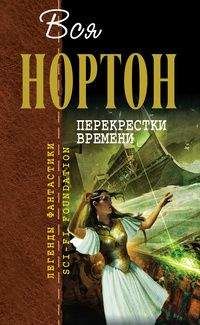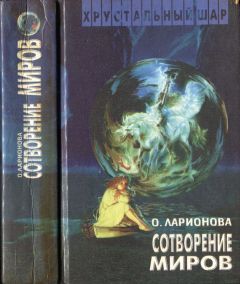Халиль Джебран Джебран - СБОРНИК: СТРАННИК. ПРИТЧИ И РЕЧЕНИЯ
Мэри Элизабет Хаскелл
Париж, 2 октября 1908
Дорогая Мэри,
я долго отдыхал за городом у моих сирийских друзей – одного богатого человека с щедрым сердцем и его жены, у которой душа и лицо одинаково прекрасны. Они оба любят поэзию и поэтов. Городок, где они живут, похож на большой сад, поделенный узкими тропками на маленькие садики. Издали дома с красными кровлями кажутся горстью кораллов, рассыпанных по зеленому бархату.
Я пишу маслом, вернее, учусь писать. Я еще не скоро буду писать так, как хотелось бы, но ведь это прекрасно – чувствовать, как меняется твой взгляд на вещи. Случается, я кончаю работать, чувствуя себя ребенком, которого рано укладывают в постель. Дорогая Мэри, помнишь, как я тебе говорил, что воспринимаю людей и веши через слух и что звук достигает моей души прежде всего? Теперь же я начинаю воспринимать вещи и людей зрением. Моя память хранит цвет и форму человека и предмета.
Сейчас, когда я в здравом уме и твердой памяти, мне хочется сказать, что те немногие картины и рисунки, которые есть у тебя, пусть будут твоими, если я внезапно умру здесь, в Париже. Все картины и этюды, которые останутся после меня в моей парижской студии, тоже принадлежат тебе. Ты вольна распоряжаться ими по своему усмотрению.
Эти слова, дорогая Мэри, может быть, неуклюжи, но выражают мои желания и чувства. Я намерен жить долго и сделать немало вещей, которые мне не стыдно было бы подарить тебе – давшей мне так много. Надеюсь, придет день, когда я смогу сказать себе: «Я стал художником благодаря Мэри Хаскелл»[88].
Скоро полночь. Уже не слышно печальных русских песен, которые часто по вечерам нежным голосом поет женщина в студии напротив. Полная тишина. Доброй ночи, дорогая. Тысячу раз – доброй тебе ночи.
Хал иль
Амину ар-Рейхани[89]
Париж, 23 августа 1910
...По возвращении из Лондона[90] все дни живу меж красок и штрихов, словно птица, что выпорхнула из клетки и, раскинув крылья, парит над полями и долами. Этюды, написанные нынче, – лучшее, что я сделал в Париже.
Сейчас у меня такое чувство, будто чьи-то незримые руки стирают пыль с зеркала моей души, срывают пелену с моих глаз и позволяют мне видеть более явственно, чем прежде, образы и фигуры, затмевающие своим блеском и красотой все когда-либо виденное мною.
Искусство, Амин, это великое Божество. Прикоснуться к краям его одежд мы можем лишь пальцами, очищенными огнем, а посмотреть в его лицо мы можем лишь глазами, полными слез!..
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 19 мая 1911
...Я пытаюсь проповедовать здешним сирийцам, которые полагаются на новый режим в Турции[91], чтобы они полагались на себя. Хочу, чтобы эти бедняги поняли, что красивая ложь так же плоха, как безобразная. Трон могущественного султана зиждется на сыром песке. К чему склоняться перед потускневшим идолом, когда взгляд может устремляться в беспредельное пространство?..
Хая иль
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 29 февраля 1912
...С понедельника работаю над картиной. Закончил нижнюю фигуру, и она мне очень нравится. Хартинг и Перри, художники, живущие по соседству, считают, что это лучшая фигура из написанных мной, но я не часто полагаюсь на мнения художников.
Мэри, я не чувствую себя и вполовину так хорошо, как следовало бы. Грипп никак не кончится, я еле волочу ноги и ужасно устаю. К тому же испытываю постоянное беспокойство. Завидую тем, кто может расслабиться, я совершенно этого не умею. Мой разум – словно ручей, всегда струится, всегда чего-то ищет, всегда журчит. Я родился со стрелой в сердце, которую одинаково больно и вытащить, и оставить.
Но я все время пишу только о себе. Скажи, Мэри, ты не устала от этих «я – то», «я – сё», «я – между тем и этим»? Знаешь, Мэри, я по большей части живу как устрица – внутри самого себя. Да, я устрица, пытающаяся создать жемчужину из собственного сердца. Но говорят, жемчужина не что иное, как болезнь устрицы.
Хал иль
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк,10 марта 1912
Мэри, дорогая Мэри, боже мой, как можешь ты спрашивать меня, приносят ли мне наши встречи больше боли, чем счастья? Что в небесах или на земле внушает тебе такую мысль?
Что есть боль и что есть радость? Можно ли отделить одно от другого? Сила, которая движет тобой и мной, состоит из радости и боли, и то, что действительно прекрасно, приносит сладостную боль или мучительную радость.
Мэри, ты дала мне так много радости, что я чувствую боль; ты принесла мне так же много боли – за это я и люблю тебя.
Хая иль
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 12 сентября 1913
...Я не в состоянии сейчас работать. Могу лишь прикрыть глаза и думать. Думать о моем Безумце[92], которого я люблю и почитаю. Несмотря на его насмешки, он для меня утешение, прибежище. Я обращаюсь к нему всякий раз, когда болен или устал. Он единственное мое оружие в этом мире, вооруженном чуждым мне оружием...
Хал иль
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 5 апреля 1914
Я не отвечал тебе, дорогая Мэри. Я много работал и много спал – иногда по десять часов – и теперь у меня такое чувство, будто работа и сон лишили меня дара речи. Бывают дни, я вообще никуда не выхожу...
С годами, Мэри, я все больше становлюсь отшельником. Жизнь – это видение, полное бесконечных, увлекательных возможностей и свершений. Но люди так слабы, Мэри; их души слабы и речь их скудна. Жизнь могущественна. Человек мал. И между жизнью и человеком лежит пропасть. Эту пропасть нельзя преодолеть, не перевернув душу и не перевернувшись самому. А пристало ли художнику быть акробатом?
Что до меня, я могу ладить только с двумя крайними звеньями в человеческой цепи – с «естественным» человеком и человеком высоко цивилизованным. Естественный – всегда стихиен, высоко цивилизованный – тонко чувствует. Но здесь, в Нью-Йорке, я вижусь и говорю только с нормальным, образованным, вежливым, нравственным человеком. А он так слаб! Он висит в воздухе между небесами и адом, но ему там так уютно, что он даже улыбается!..
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 14 марта 1915
Пришла весна, дорогая Мэри, и трудно усидеть в студии. Каждый день хожу в Парк[93]. Брожу там в глухих уголках, пока не стемнеет, и возвращаюсь домой, когда сквозь голые ветки начинают светиться огни.
Одинокие прогулки с блокнотом в руках – это самая большая радость для меня в этом городе. Я размышляю и говорю с тобою.
Нет, я не согласен с тем, что жизнь – это «повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, нет лишь смысла»[94], как считал Макбет. Жизнь – это одна долгая мысль. И все-таки мне не хочется думать так же, как другие. Они пролагают один путь, сообразно своему разумению, я – другой, насколько хватит ума и сил.
Мэри, мы еще и оттого так сблизились друг с другом, что вместе пролагаем путь к одной цели. И не боимся так называемого одиночества.
Я сделал два портрета Райдера[95]. Один из них не совсем закончил и потому должен буду пойти к нему еще раз. Но если б ты знала, Мэри, какой он усталый, измученный. Последний раз при нашей встрече он сказал, что рисует в уме. Руки больше его не слушаются.
Два больших отрывка из «Безумца» читались в Американском Поэтическом Обществе. За чтением последовала довольно длинная дискуссия. Одни говорили, что это замечательно, другие – что это странно и непонятно.
Госпожа Робинсон, сестра Теодора Рузвельта, после того как услышала притчу «Мы с моей душой отправились искупаться в великом море», встала и заявила: «Какое тлетворное, дьявольское сочинение. Мы не должны поощрять проникновение подобного духа в нашу литературу. Это противоречит всем принципам нашей морали и канонам истинной красоты».
Ну вот, дорогая Мэри, теперь я иду побродить на солнце. День теплый и ясный. Возьму с собой блокнот и буду рассказывать тебе то, чего не умею объяснить на бумаге.
Храни тебя Бог, дорогая.
С любовью,
Хал иль
Мэри Элизабет Хаскелл
Нью-Йорк, 23 мая 1915
Если б ты знала, дорогая Мэри, как радуется мое сердце, когда ты рассказываешь о своей работе. – например, в последних письмах. Мне часто хотелось говорить о твоей работе, как о форме Жизни, творящей Жизнь; но я сдерживал себя, считал, что ты не хочешь этого. А сейчас, когда это исходит от тебя, я чувствую, что свершилось нечто значительное. Когда мы встретимся, мы подробней поговорим об этом, но не как о чем-то новом – нет, а как о старом, воплотившемся заново.