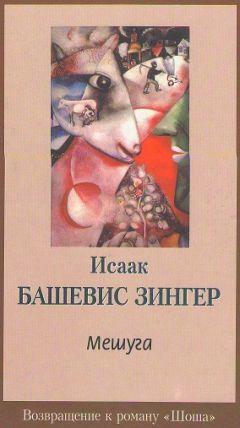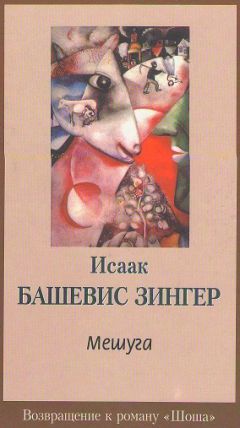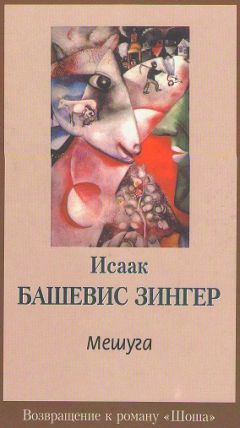Исаак Башевис-Зингер - Шоша
Если я не проводил ночь с Шошей, то обычно появлялся дома после обеда. Но сегодня я решил прийти пораньше. Я слишком устал, чтобы работать на Лешно. Расплатившись, я отправился по Сенаторской к Банковской площади, а оттуда на Навозную и Крохмальную. На еврейских улицах, как и всегда, была толкотня, спешка и суета. В меняльных лавках на Пшеходной были вывешены цифры — курс доллара на злотые. На черном рынке платили за доллар еще больше. В иешивах изучали Талмуд. В хасидских молельнях толковали о своих хасидских делах. Я проходил мимо и разглядывал все вокруг так, будто вижу это в последний раз. Пытался запечатлеть в памяти каждый закоулок, каждый дом, лавку, каждое лицо. Я подумал: это похоже на то, как приговоренный к казни по дороге на эшафот в последний раз смотрит на мир. Я прощался с каждым разносчиком, дворником, каждой торговкой на рынке — даже с лошадьми, запряженными в дрожки. Понимание и сочувствие видел я в их огромных влажных глазах с темными зрачками.
На Навозной я задержался возле большой молельни в доме № 5. Почернелые стены, замусолены и обтрепаны книги, но юноши с длинными пейсами все так же раскачиваются над древними фолиантами и распевают святые слова на тот же печальный мотив. На возвышении у скинии кантор славил Бога за его обещание воскрешения из мертвых. Маленький человечек с желтой бородкой и восковым лицом торговал вареным горохом и бобами, складывая плату в деревянную плошку. Был ли это Вечный Жид? Или то был один из сионских мудрецов, заключивший тайный союз о наступлении царства Сатаны с Геббельсом, Рузвельтом и Леоном Блюмом? Я дошел до Крохмальной. У ворот нашего дома дочь булочника торговала горячими бубликами. Должно быть, это одна из моих читательниц, потому что она улыбнулась и подмигнула мне. Казалось, девушка хочет сказать: "Как и вы, я вынуждена играть свою роль до последней минуты". Я пересек двор, открыл дверь и остолбенел: за столом сидела Текла и пила из большой кружки то ли чай, то ли кофе с цикорием. Шоша сидела с краешку. Наверное, что-то случилось с матерью, подумал я сразу. Скорее всего, пришла телеграмма, что она умерла. Текла увидела меня и вскочила. Шоша тоже встала. Она всплеснула руками:
— Ареле, сам Бог прислал тебя!
— Что здесь происходит? Или это мерещится мне?
— Что ты сказал? Входи же. Ареле, пришла эта польская девушка и сказала, что тебя ищет. Назвала тебя по имени. Принесла корзинку со своими вещами. Вот она. Она говорила что-то про жениха. Я не поняла, о чем она говорит. Хорошо, что мамеле ушла в магазин, а то бы она подумала кто его знает что. Я сказала, что ты придешь не раньше обеда, но она говорит, что подождет.
Текла порывалась заговорить, но терпеливо ждала, не перебивая Шошу. Она была бледна и, казалось, не спала ночь. Наконец она сказала:
— Пшепрашам пана, но вот как получилось. Вчера вечером постучали с черного хода. Я отперла — думала, соседка пришла вернуть стакан соли или кто-нибудь из девушек с нашего двора. Я отпираю и вижу: стоит деревенский парень, один из наших. Одет по-городскому. И говорит мне: "Текла, не узнаешь меня? " Это был Болек, мой жених. Он вернулся из Франции, с угольных копей, и теперь, говорит, хочет жениться на мне. Я перепугалась до смерти. Говорю ему: "Что же ты не писал столько времени? Уехал и как сквозь землю провалился". А он: "Не умею я писать, и никто из рабочих там не умеет". Слово за слово, он садится на мою кровать и ведет себя как ни в чем не бывало, словно вчера ушел. И подарок привез — так, побрякушку. Это Божье чудо, что я не умерла на месте. Говорю ему: "Болек, раз ты не писал так долго, все между нами кончено, и мы больше не жених и невеста". А он как начал орать: "Это еще что? Дружка себе завела? Или втюрилась в того жидка, что письма мне писал? " Он был пьян и выхватил нож. Хозяйка услыхала шум, прибежала, а он как начал проклинать евреев и грозился, что всех нас убьет. Хозяйка и говорит: "Пока еще Гитлер не пришел сюда. Вон из моего дома". Владек пошел за полицией, но полицейский пришел только через три часа. Болек грозился вернуться сегодня и клялся, если не пойду с ним к ксендзу, убьет. Он ушел, а хозяйка и говорит: "Текла, ты работала на совесть, но я старая и слабая и не сумею выносить такое. Забирай вещи и уходи". Еле уговорила ее, чтобы разрешила переночевать. Утром она заплатила мне, что причитается, и еще пять злотых дала, и я ушла. Вы один раз дали этот адрес, вот я и пришла. Эта молодая паненка сказала, что она ваша жена и что вы придете только к обеду. Но куда мне идти? Я никого не знаю в Варшаве. Думается, вы не прогоните меня?
— Прогнать тебя? Текла, ты мой друг до гроба!
— Ох, вот спасибо. И домой, в деревню, не могу поехать. У него целая банда таких головорезов. Они вместе служили в армии, а от туда вернулись с пистолетами да штыками. Болек грозился, что и в деревне меня найдет.
Он скопил тысячу злотых, и еще у него есть французские деньги, да у меня уже сердце к нему не лежит. На свете много девушек, Болек может себе другую завести. Он хлещет водку и сквернословит, а я уже от такого отвыкла.
— Ареле, если мамеле вернется и услышит такое, она разволнуется, — сказала Шоша. — Если там хулиган угрожает и с ножом, тебе не надо ходить в такое место. Но что она тут будет делать? Нам самим еле хватает места, куда приклонить голову. Мамеле всегда говорит, чтобы я никого не впускала. Она говорила так и тогда, помнишь, когда…
— Да, Шошеле, помню. Но Текла — хорошая, порядочная девушка, и она никому не причинит хлопот. А сейчас я ее уведу.
На идиш же я сказал: "Шошеле, мы уйдем сию минуту. А матери ничего не говори".
— Ой, она все равно узнает. Все смотрят в окна, и стоит кому-нибудь чужому прийти, начинается: "Что ей здесь надо? Чего она хочет? " Молодые еще заняты с детьми, а старухам надо все знать.
— Ну ладно, пусть. К обеду я вернусь. Текла, идем со мной.
— Взять мне корзинку?
— Да, бери.
— Ареле, только не опаздывай. А то мать начинает тревожиться, что, может, ты нас не хочешь и всякое такое. Я тоже начинаю разное думать. Последнюю ночь я глаз не сомкнула. Если она голодная, можно дать ей хлеба и селедку с собой.
— Она потом поест. Идем, Текла.
Мы прошли как сквозь строй под пристальными взглядами всех жильцов. Всем своим видом они, казалось, спрашивали: "Куда это он отправился в такую рань с этой деревенской? И что у нее в корзинке? " А я мысленно отвечал им: "Вы умеете разгадывать газетные кроссворды, но никогда не постичь вам тайн жизни. Семь дней и семь ночей можете потирать свои лбы, как хелмские мудрецы[18], но ответа вам не найти".
Перед воротами я постоял немного. Что же теперь делать? Попытаться найти для нее комнату? Или пойти в кофейню и просмотреть объявления о найме в сегодняшних газетах? Все-таки надо было оставить ее с Шошей. Но я никогда не говорил ни Шоше, ни Басе про комнату на Лешно. Они думают, что я ночую в редакции.
Бася сразу придумает тысячу вопросов. И вдруг я понял, что надо сделать. Решение такое простое! И как только сразу мне это не пришло в голову? Мы с Теклой дошли до гастронома в доме № 12. Я попросил ее подождать у дверей, а сам вошел внутрь и позвонил Селии. Несколько дней назад она как раз жаловалась, что после ухода Марианны не справляется с хозяйством, а хорошую прислугу найти так трудно. В трубке раздался протяжный голос Селии:
— Кто бы это мог быть, я никого не жду.
— Селия, это Цуцик.
— Цуцик? Что стряслось? Уже пришел Мессия?
— Нет, Мессия еще не пришел. Зато я на шел для вас хорошую служанку.
— Для меня? Служанку?
— Да, Селия. И квартиранта.
— Накажи меня Бог, если я что-нибудь по нимаю. Какого квартиранта?
— Квартирант — это я.
— Вы смеетесь надо мной?
И я рассказал Селии, что произошло.
— Я больше не смогу оставаться в своей комнате на Лешно. Этот буян угрожает и Текле, и мне, — закончил я.
Селия не перебивала меня, пока я излагал события. Было даже слышно ее дыхание на том конце провода. Время от времени я посматривал через стеклянную дверь, там ли Текла. Текла ждала покорно и терпеливо. Даже не поставила на землю свою тяжелую корзинку. Наоборот, держала ее двумя руками, прижав к животу. Там, на Лешно, она выглядела по-городскому. А за последнюю ночь она, кажется, снова превратилась в девушку из деревни.
— И Шошу тоже возьмете с собой?
— Если она сможет расстаться с матерью.
Селия, видимо, обдумывала мои слова. По том сказала:
— Приводите ее с собой, когда захотите. Где вы бываете, там и она должна бывать.
— Селия, вы спасаете мне жизнь! — воскликнул я.
Снова Селия помолчала. Потом добавила:
— Цуцик, берите такси и приезжайте сейчас же. Если я проживу еще немного, может, и со мной случится что-нибудь хорошее. Только не было бы слишком поздно.
ЭПИЛОГ
Прошло тринадцать лет. Я работал в одной из нью-йоркских газет. Мне удалось скопить две тысячи долларов. Получил аванс пятьсот долларов — за перевод на английский одного романа. И с этими деньгами предпринял поездку в Лондон, Париж и Израиль. Лондон еще лежал в руинах после немецких бомбежек. В Париже процветал черный рынок. Из Марселя я сел на пароход, идущий в Хайфу с заходом в Геную. Молодежь пела ночи напролет — старые, знакомые песни и новые — они появились уже во время войны с арабами с 1948 года по 1951. Через шесть дней пароход прибыл в Хайфу. Поразительно было увидеть еврейские буквы на вывесках магазинов, в названиях улиц, носящих имена писателей, раввинов, героев, общественных деятелей. Удивительно слышать на улицах древнееврейскую речь в сефардском произношении, встречать еврейских парней и девушек в военной форме. В Тель-Авиве я остановился в отеле на Яркон-стрит. Тель-Авив — новый город, но дома там уже выглядели старыми и обшарпанными. Телефон, как правило, не работал. Редко шла горячая вода в ванной. По ночам отключали электричество. Кормили плохо.