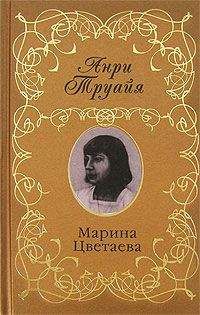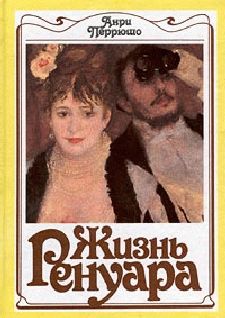Анри Мюрже - Сцены из жизни богемы
«Спокойной ночи»,– сказал он.
Я ответила: «Спокойной ночи…»
Я думала, что он поцелует меня, и я бы его не оттолкнула, но он только взял мою руку и поднес к губам. Вы знаете, Марсель, как он любил целовать мне руки! Я услышала, что у него стучат зубы, и почувствовала, что он похолодел, словно мрамор. Он все жал мою руку, а голову склонил мне на плечо, и вскоре плечо стало совсем мокрым. Он был в ужасном состоянии. Чтобы не кричать, он кусал простыню, но я все же слышала его заглушенные рыдания и чувствовала, как слезы капают мне на плечо – сначала они обжигали его, потом стали леденить. Тут я призвала на помощь все свое мужество, это мне далось нелегко. Если бы я сказала хоть одно слово, если бы обернулась, мои губы встретились бы с губами Родольфа, и мы помирились бы еще раз. Ах! На минуту мне показалось, что он вот-вот умрет у меня на руках или же сойдет с ума, как это с ним чуть не случилось однажды – помните? Я уже готова была сдаться, ведь я все понимала, я готова была сделать первый шаг, готова была обнять его, ведь только бесчувственный человек мог бы устоять при виде таких страданий. Но тут мне вспомнились слова, которые он сказал накануне: «Если ты останешься со мной, значит, у тебя нет совести. Ведь я разлюбил тебя». Как вспомнила я это, у меня все внутри закипело, и, честное слово, если бы он тогда умирал и я могла бы спасти его одним поцелуем, я отвернулась бы от него! Под конец я от усталости задремала. Я все еще слышала его рыдания, и клянусь вам, Марсель, он рыдал всю ночь напролет. А когда рассвело и я увидела возле себя в постели, где спала в последний раз, своего возлюбленного, которого собиралась покинуть, чтобы перейти в объятия другого, я не на шутку испугалась – так изменилось от горя его лицо!
Оба мы молчали, он встал, сделал два-три шага и чуть было не упал – до того он был слаб и подавлен. Но все же он поспешно оделся и только спросил, как у меня идут дела и когда я уеду. Я ответила, что сама не знаю. Он ушел, не простившись, даже не пожав мне руку. Вот как мы с ним расставались. Какой же, должно быть, был для него удар, когда он, вернувшись домой, уже не застал меня!
– Это было при мне,– ответил Марсель. Мими слушала, тяжело дыша после долгого рассказа. – Когда он брал у привратницы ключ, она сказала ему: «Девочка ушла».– «Меня это не удивляет,– бросил Родольф.– Я так и думал». И он пошел к себе наверх, и я вместе с ним, потому что боялся за него. Но мои опасения не оправдались.
«Сейчас уже слишком поздно, чтобы подыскивать другую комнату. Придется отложить до утра. Тогда пойдем вместе,– сказал он мне.– А теперь – обедать».
Я подумал, что он собирается напиться, но ошибся. Мы очень скромно пообедали в ресторане, где вы не раз бывали с ним. Я заказал боннского вина, чтобы Родольф немного забылся.
«Это любимое вино Мими,– сказал он.– Мы частенько пили его вот за этим самым столиком. Помню, однажды она – в который уже раз! – протянула мне бокал и говорит: „Налей еще, оно действует на меня как бальзам“* [Непереводимая игра слов, основанная на почти одинаковом звучании французского слова „baume“ (бальзам) и названия вина „Beaune“.– Прим. перев]. Каламбур не из удачных, правда? Под стать разве что любовнице какого-нибудь водевилиста. Но Мими умела пить, ничего не скажешь».
Видя, что Родольф хочет удариться в воспоминания, я заговорил о другом, и о вас больше не было речи. Он провел со мной весь вечер и казался спокойным, как Средиземное море. Особенно удивляло меня, что его спокойствие совсем не было деланным. Равнодушие было самое искреннее. К полуночи мы возвратились домой.
«Кажется, тебя удивляет, что после всего пережитого я так спокоен,– сказал он.– Позволь мне, дорогой, сделать одно сравнение, может быть, ты найдешь его вульгарным, однако в нем много правды. Мое сердце сейчас как водопроводный кран, который забыли запереть на ночь,– к утру не осталось ни капли воды. Право же, за ночь я выплакал все слезы. Странно, я воображал, что способен глубоко страдать, а вот оказалось, что, промучившись одну ночь, я вконец разорился, весь выдохся. Честное слово, это так. Прошлой ночью, когда рядом со мной неподвижно лежала эта женщина, я чуть было не отдал богу душу, а теперь, когда она склонила голову на подушку другого,– я усну на той же самой постели, как грузчик, добросовестно проработавший весь день».
«Притворство,– подумал я.– Стоит только мне уйти, и он начнет биться головой об стену». Все же я покинул Родольфа и отправился к себе, однако спать не лег. В три часа утра мне почудился в комнате Родольфа какой-то шум, я бросился к нему, опасаясь, что застану его в отчаянии, в бреду…
– И что же? – спросила Мими.
– А то, милая моя, что Родольф спал одетый, лежа на одеяле, и, как видно, провел ночь спокойно и лег сразу после моего ухода.
– Возможно,– сказала Мими.– Он очень устал после той ночи… Ну, а на другой день?
– На другой день рано утром Родольф разбудил меня, и мы с ним отправились в другую гостиницу, сняли себе номера и к вечеру туда перебрались.
– А что с ним было, когда он уезжал из квартиры, где мы с ним жили? Что он говорил, когда покидал комнату, где так горячо меня любил?
– Он спокойно собрал свои пожитки,– ответил Марсель.– А когда обнаружил в ящике вязаные перчатки, которые вы забыли, и два-три ваших письма…
– Знаю,– промолвила Мими, как бы желая сказать: «Я их нарочно оставила, чтобы они напоминали обо мне».– Что же он с ними сделал? – она.
– Насколько помню, он бросил письма в камин, а перчатки за окно,– ответил Марсель.– Но без всяких театральных эффектов, без позы, а совершенно естественно, как выбрасывают ненужную вещь.
– Дорогой господин Марсель, клянусь, я от всей души желаю, чтобы он и впредь был так же равнодушен ко мне. Но честное слово, я не верю, что он мог так быстро оправиться, и, несмотря на все ваши слова, убеждена, что сердце его разбито.
– Возможно,– ответил Марсель, прощаясь с Мими,– но мне думается, что его черепки еще вполне пригодны.
Пока молодые люди вели на улице этот разговор, виконт Поль поджидал свою подругу. Она пришла с большим опозданием и в отвратительном настроении. Виконт растянулся у ее ног и тихонько запел ее любимую песенку, воркуя о том, что она очаровательна, бледна как луна, кротка как ягненок, но что он любит ее прежде всего за душевную красоту.
«Да,– думала Мими, распуская свои черные кудри по белоснежным плечам,– мой друг Родольф не был таким напыщенным».
II
Казалось, Марсель был прав, и Родольф совершенно излечился от любви к мадемуазель Мими, дня через три-четыре после разлуки с ней он появился среди друзей совершенно преображенный. Он был одет так изящно, что, вероятно, даже его собственное зеркало не узнавало его. Глядя на него, никто не верил, что он помышляет о самоубийстве, хотя мадемуазель Мими, лицемерно сокрушаясь, и распространяла такого рода слухи. Действительно, Родольф был вполне спокоен, он выслушивал рассказы о новой, роскошной обстановке, в какую попала его бывшая возлюбленная, и лицо его оставалось невозмутимым, а Мими всячески старалась, чтобы Родольф узнавал малейшие подробности ее жизни, и в этом ей помогала подруга, почти каждый вечер видевшаяся с поэтом.
– Мими безумно счастлива с виконтом Полем,– докладывали Родольфу,– она от него без ума. Одно только тревожит ее – она боится, как бы вы не нарушили ее покой и не стали ее преследовать. Но это будет и для вас опасно, потому что виконт обожает свою подругу и отлично владеет шпагой.
– Что вы, что вы! – отвечал Родольф.– Пусть себе спит безмятежно, я вовсе не собираюсь отравлять ей медовый месяц. А что до ее юного возлюбленного – пусть его кинжал, как карабин Гастибельзы, спокойно висит на стене. Я не намерен покушаться на жизнь дворянина, который все еще питается блаженными иллюзиями.
Разумеется, Мими передавали, как ее бывший возлюбленный выслушивает рассказы о ее новой жизни, и она всякий раз отвечала, пожимая плечами:
– Ну что ж, ну что ж, поживем – увидим.
Между тем сам Родольф больше всех удивлялся равнодушию, которое внезапно пришло на смену беспросветному отчаянию, владевшему им несколько дней назад, причем этому равнодушию даже не предшествовали обычные в таких случаях грусть и тоска. Забвение, что так долго не приходит, особенно для тех, кто отчаялся в любви, забвение, которое люди так усиленно призывают и так яростно гонят прочь, когда оно приближается, забвение, этот жестокий утешитель, неожиданно нахлынуло на Родольфа, и имя женщины, еще недавно столь ему дорогой, теперь уже не вызывало в нем никакого отклика. И странное дело, Родольф, отлично помнивший события далекого прошлого, людей, которые давным-давно встретились на его пути или оказали на него влияние,– теперь, через четыре дня после разрыва, как ни старался, не мог отчетливо представить себе черты лица любовницы, чуть не сломавшей его жизнь своими хрупкими ручками. Он как будто позабыл глаза, которые нежно ему сияли. Он уже не помнил голоса, звуки которого причиняли ему то острую боль, то безумную радость. Как-то вечером поэт, приятель Родольфа, встретил его на улице. Вид у Родольфа был озабоченный и деловитый, он шел торопливо, помахивая тросточкой.