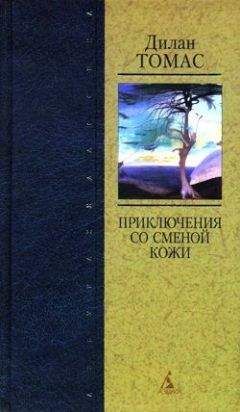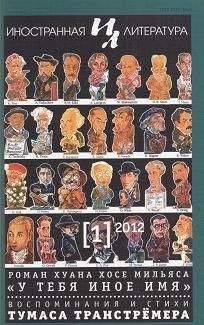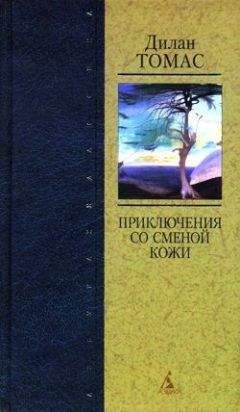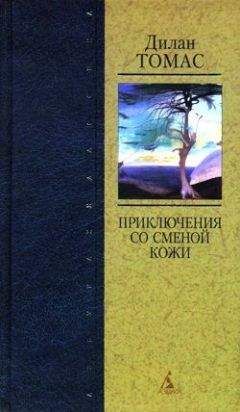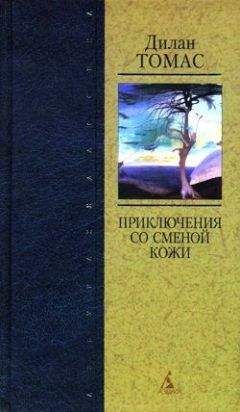Валлийский рассказ (сборник) - Мэйчен Артур Ллевелин
Оставшись наедине с грудой рабочей одежды, ссохшейся от грязи и пота и ждавшей, чтобы ее выстирали и высушили, мать, стоя у окна, выпивала чашку чая, жевала хлеб. За исключением воскресных дней, мужчины редко видели, как она ест, но даже тогда она не притрагивалась к бекону. Лишь в летние месяцы она с видимым удовольствием съедала какое-либо блюдо целиком: любила, например, фасоль и могла умять ее полную тарелку, отвернувшись к окну и глядя на далекую гору, упиравшуюся в небо, так что казалось, будто она мечтает о царствии небесном. Ее четвертый сын Эмлин спросил однажды:
— Похоже, мать, ты ешь по воскресеньям столько, что тебе хватает на целую неделю? Или ты как следует заправляешься, когда мы в шахте?
Она имела привычку размышлять стоя, пока голова не начинала раскалываться от мыслей. День догорал на вершинах гор. Откуда было браться деньгам, если они не переставали запихивать дорогостоящий бекон в свои красные глотки? Тикали часы.
Она вдруг засуетилась, достала из потайного места монету и, нахлобучив кепку, поспешила прочь. С пылающим лицом она ворвалась в мануфактурный магазин на углу как раз в тот момент, когда хозяин, старый Робертс, собирался закрывать, и, выставив вперед свою челюсть, тяжело дыша, спросила:
— Сколько стоит шелковая рубашка на той леди в витрине?
Смерив взглядом жену угольщика в мужской кепке и юбке, сшитой словно бы из старой дерюги, Робертс зло бросил:
— Столько стоит, что тебе не заплатить, вот сколько!
Однако вид женщины говорил, что спрашивает она серьезно, и Робертс сказал, что цена рубашки составляет семьдесят шиллингов одиннадцать пенсов и он надеется, что вещица эта понравится жене управляющего шахтой или врача. Женщина сказала с вызовом:
— Продайте рубашку мне. Я стану выплачивать шиллинг в неделю, а то и больше, и вы подержите ее у себя, пока я полностью не расплачусь. Сейчас же снимите рубашку с витрины и отложите для меня. Сделайте это при мне, достаньте ее.
Что на тебя нашло?— удивленно воскликнул Робертс: его рассердило и одновременно удивило ее желание иметь шелковую ночную рубашку.— Зачем она тебе?
— Достаньте ее,— с угрозой в голосе сказала женщина,— или сюда придет мой муж, Уолт Рис.
В городке хорошо знали семью рослых мужиков, которые не прочь были подраться. Поломавшись еще немного, Робертс согласился на рассрочку, и умиротворенная женщина настояла на том, чтобы он при ней раздел восковую леди в витрине. Костистым дрожащим пальцем она потрогала мягкий белый шелк и торопливо покинула магазин.
Как ей удалось выплатить стоимость рубашки менее чем за год, осталось загадкой, ведь у нее никогда не было лишнего пенса и серебряная монета в доме среди недели была такой же редкостью, как христианская душа в Англии. Но женщина регулярно забегала к мануфактурщику и разжимала перед ним свой серый кулак. Иногда она требовала показать ей рубашку, опасаясь, что торгаш мог сбыть ее кому-нибудь за наличные, но Робертс в подобных случаях напускался на нее:
— Что с тобой, женщина? Рубашка упакована, в целости и сохранности.
Однажды, несмотря на гнев мануфактурщика, она спросила, позволено ли ей будет унести рубашку с собой, и обещала честно выплатить все до конца. Тут Робертс взорвался:
— Проваливай! Немало нашего брата разорилось только из того, что отпускали в кредит. Подумать только, она покупает шелковую рубашку! Чего еще пожелаете?
Ей хотелось, чтобы рубашка уже была у нее; она опасалась, что запоздает с выплатой оставшейся суммы. Инстинкт подсказывал ей, что следовало торопиться. И она спешила, все больше обворовывая свой собственный желудок, и понемногу пыталась даже обкрадывать желудки своих мужиков, хотя знала, что они хмурились и ворчали бы, исчезни с их бекона хотя бы шкурка. Но наконец, когда с гор подули холодные мартовские ветры и ей пришлось укутывать свою впалую грудь в видавшую виды шаль, в которой она выходила пятерых своих прожорливых детей, женщина выплатила последний взнос. Она вернулась домой со свертком, когда мужчины были шахте; на подбородке и щеках от возбуждения у нее выступили темные пятна.
Она заперла дверь, вымыла руки, развернула сверток и села, бережно держа шелк в руках, и так она просидела, не шевелясь, по меньшей мере полчаса; на ее потемневшем лице лихорадочно блестели глаза. Затем она сунула сверток под всякое домашнее барахло в ящике комода, куда ее мужики никогда не заглядывали.
Через неделю-другую в лавке, когда она привычно спросила три фунта бекона, мистер Гриффитс принялся строго ее отчитывать:
— А как насчет старых долгов? Жаль, что вместо того, чтобы расплатиться, вы покупаете шелковые рубашки. Моя жена может спать и в хлопковой, а вы нежитесь в шелке и при этом не расплачиваетесь до конца за бекон и другие товары. Каждый день консервированные ананасы... Ого!
Бакалейщик сверлил ее взглядом.
— Не я нежусь в шелковой рубашке,— огрызнулась она. — Это свадебный подарок для моей родственницы.
Но она была немного раздосадована тем, что мануфактурщик выдал ее секрет своим приятелям. Гриффитс проворчал:
— Не знаю, что вы делаете со всеми продуктами, которые уносите из моего магазина. Каждый день столько бекона, что хватило бы на поминки, да дюжина банок консервированных фруктов и красной рыбы. Едите ради развлечения, что ли?
— Кормлю здоровых мужиков, нахмурилась женщина.
И все же теперь она казалась не такой мрачной, даже когда обливалась потом у пылающей плиты, и перестала раздраженно покрикивать на своих мужиков. Когда же, незадолго до пасхи, она почувствовала себя плохо, никто не услышал от нее жалоб, а мужчины, конечно, ничего не заметили, поскольку их бекон был всегда на столе и сладкие пироги не переводились, вода для мытья нагрета и рубашки на выход выглажены.
У нее не было времени подумать о своем недомогании до самых пасхальных праздников, когда представилась возможность слегка отдохнуть от работы, поскольку мужчины отправлялись на собачьи бега в долину Маерди. Она почувствовала себя так, словно по телу ее проехали колеса нескольких вагонов, груженных углем, однако еще держалась на ногах. Когда мужчины вернулись в полночь домой, а были они навеселе, их ждала свежеподжаренная рубленая печень с приправами, шипевшая в ароматном жиру на больших сковородах, а их рабочая одежда была готова к утренней смене. Мать подавала им, но как-то медлительно, лицо ее было замкнуто, а ростом она стала вроде бы ниже, поскольку у нее подгибались ноги. Но мужчины так ничего и не заметили, болтая про собачьи бега.
Соседка миссис Льюис сказала, что ей следовало бы полежать недельку в постели. Мать ответила: нужно кормить мужиков.
Недели две спустя, незадолго до того, как мужчины должны были вернуться из шахты, в раскаленной, словно печь, кухне у матери сами собой подкосились ноги, тяжелая сковорода вырвалась из рук и отлетела в сторону, и когда они вошли, то обнаружили ее лежащей на полу с почерневшим лицом, среди ломтиков поджаренного бекона. Ночью она умерла, как раз в тот момент, когда сестра милосердия заботливо смачивала ей губы. Уолт, спавший внизу, на стуле, не успел с ней попрощаться: когда он поднялся к ней, было уже поздно.
В результате этого события привычный порядок в доме нарушился, и никто должным образом не накормил мужчин, поэтому ни один из них в то утро в шахту не пошел. В десять часов соседка миссис Льюис, впервые за тридцать лет скрытой дружбы с покойной, со значительным видом вступила в их дом. Все наставления она получила заранее, еще много недель назад. Некоторое время спустя соседка кликнула сверху мужчин, которые сидели в кухне, словно на иголках.
— Поднимайтесь, теперь она готова.
Один за другим они вошли к ней на цыпочках — шесть здоровенных мужиков с понурыми головами, выбитые из привычного ритма ежедневной трудовой жизни, питания и посещения пивной.
Они вступили в комнату, чтобы взглянуть на мать в последний раз, и тут же все застыли в изумлении.
На постели лежала незнакомка. Великолепная, переливающаяся шелковая рубашка легкими складками ниспадала на ее ноги; она лежала словно леди, которая прилегла отдохнуть в чистоте и покое. Мужчины глядели на нее, не отрывая глаз, словно она была ангелом, окруженным сиянием. Но лицо ее с выступающей челюстью было суровым, будто запрещало нарушать желанный покой, который она наконец обрела.