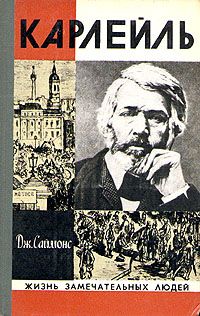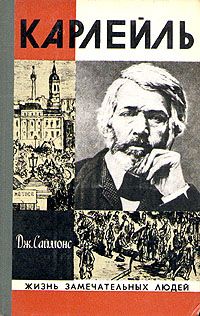Хорхе Борхес - Предисловия
Отрицая присутствие материи, скрытой за кажимостью мира, отрицая Я, реагирующее на кажимость, Маседонио утверждал бесспорную действительность, и то была действительность страсти, выраженной в искусстве и в любви. Полагаю, любовь Маседонио считал волшебней искусства; такое предпочтение коренилось в его чувствительном характере, а не в доктрине, предполагающей (как мы уже убедились) отказ от Я, что влечет за собой отрицание объекта и субъекта страсти, представляющейся единственно реальной. Маседонио говорил, что объятья тел (как и приветствие) — не что иное, как знак, который одна душа передает другим; правда, души в его философии нет.
Подобно Гуиральдесу, Маседонио допустил, чтобы его имя связали с поколением, названным "Мартин Фьерро"[10] и предложившим столь рассеянному и скептическому вниманию Буэнос-Айреса опоздавшие и провинциальные вариации футуризма и кубизма. Если не считать личных отношений, включение Маседонио в эту группу еще менее оправдано, чем включение Гуиральдеса; "Дон Сегундо Сомбра"[11] происходит от "Пайядора" Лугонеса[12], как весь ультраизм берет начало в "Календаре души"[13]; однако мир Маседонио гораздо более разнообразен и огромен. Мало его интересовала и техника письма. Культ городских окраин и гаучо вызывал его добродушную насмешку: в одной анкете он заявил, что гаучо — это развлечение для лошадей, и добавил: "Всю жизнь пеши! Ну и ходок!" Однажды вечером речь шла о бурных выборах, прославивших паперть Бальванеры; Маседонио парировал: "Мы, соседи Бальванеры, все как один погибли на столь опасных выборах".
Кроме своего философского учения, частых и тонких эстетических наблюдений, Маседонио оставался и остается для нас неповторимым примером человека, бегущего превратностей славы и живущего страстью и размышлением. Не представляю, какими сходствами или различиями чревато сопоставление философии Маседонио с философией Шопенгауэра или Юма; достаточно того, что в Буэнос-Айресе около тысяча девятьсот двадцать такого-то года некто думал и вновь открывал нечто, связанное с вечностью
Эдуард Гиббон "Страницы истории и автобиографии"
Перевод Б. Дубина.
Эдуард Гиббон появился на свет в окрестностях Лондона 27 апреля 1737 года и принадлежал к старинному, но не особенно знатному роду: среди его предков был некий Марморарий — придворный зодчий XIV века. Мать, Джудит Портен, по-видимому, бросила его на произвол судьбы с первых же лет чреватой опасностями жизни. Вряд ли он выкарабкался бы из многочисленных и неотступных болезней без преданной незамужней тетки, Кэтрин Портен. Позже наш герой назовет ее истинной матерью своего ума и здоровья; тетка научила его читать в возрасте настолько раннем, что годы учения забылись и он, казалось, так и родился с книгой в руках. К семи годам, ценой нескольких слез и изрядного количества крови, он в общих чертах усвоил латинский синтаксис. Любимым чтением стали Эзоповы басни, эпопеи Гомера в величавом переводе Александра Попа и "Тысяча и одна ночь", только что открытые Галланом воображению европейцев. Вскоре к восточным чудесам прибавились классические — прочитанные в оригинале "Метаморфозы" Овидия.
В четырнадцать он впервые услышал зов истории: дополнительный том римской истории Эчарда раскрыл перед ним все глубины падения империи после смерти Константина. "Мыслями я был на переправе готов через Дунай, когда звавший к обеду колокол некстати отрывал меня от пиршеств духа". Вслед за Римом Гиббона околдовал Восток, он с головой ушел в биографию Магомета, ныряя во французские и латинские переводы арабских источников. От истории, по закону естественного притяжения, перенесся к географии и хронологии, пытаясь в свои пятнадцать лет примирить системы Скалигера и Петавия, Маршема и Ньютона. В это время он поступил в Кембриджский университет. Позже напишет: "Не могу принять на себя даже мысленный долг, дабы измерить и возместить тогдашние справедливые или великодушные расходы". О древности Кембриджа он замечает: "Может быть, я и взялся бы за беспристрастное исследование легендарного или истинного возраста двух наших братских университетов, но, боюсь, вызвал бы среди их до фанатизма преданных питомцев ожесточенные и непримиримые споры. Ограничусь признанием, что оба почтенных учреждения достаточно стары, чтобы стать мишенью для обвинений и упреков в дряхлости. Преподаватели, — добавляет он, — полностью освободили свой ум от трудов чтения, мысли или письма". Не найдя отклика (посещение занятий не было обязательным), юный Гиббон на свой страх и риск пустился в богословские штудии. Чтение Боссюэ обратило его к католичеству; он уверовал или, как пишет сам, уверовал, будто верит, что тело Христово воистину содержится в причастии. Один иезуит крестил его по римскому обряду. Позже Гиббон отправил своему духовному отцу длинное полемическое письмо, "написанное с торжеством, достоинством и наслаждением мученика". Быть студентом Оксфорда и исповедовать католичество — вещи несовместимые. Юный и пылкий вероотступник был предан университетскими властями изгнанию и отправлен отцом в Лозанну, тогдашний оплот кальвинизма. Он поселился у протестантского пастора, господина Павийяра, который за два года бесед наставил юношу на путь истинный. Гиббон провел в Швейцарии пять лет, оставившие по себе привычку к французскому языку и литературе. На эти годы падает единственный романический эпизод в биографии нашего героя: он влюбляется в мадемуазель Кюршо, позднее — мать госпожи Де Сталь. Отец в письме запрещает даже думать об этом браке; Эдуард "как влюбленный вздохнул, но как сын не посмел ослушаться".
В 1758 году он вернулся в Англию. Первым литературным трудом юноши стало собирание библиотеки. К покупке книг он не примешивал ни чванства, ни тщеславия и спустя годы смог убедиться в справедливости снисходительной максимы Плиния, согласно которому нет такой плохой книги, где не нашлось бы хоть толики хорошего (Эту великодушную мысль своего дяди сохранил для нас Плиний Младший ("Письма", 3, 5). Обычно ее приписывают Сервантесу, повторившему эти слова во втором томе "Дон Кихота"). В 1761 году увидела свет первая публикация Гиббона на привычном для него французском языке.
Статья именовалась "Essai sur l'etude de la lit-terature" (Опыт об изучении литературы) и защищала классическую словесность, приниженную энциклопедистами. Гиббон замечает, что на родине его труд встретили холодным безразличием, едва ли прочли и немедленно забыли.
Предпринятое в 1765 году путешествие в Италию потребовало от нашего героя нескольких лет подготовки по книгам. Он увидел Рим. В первую свою ночь в вечном городе он не сомкнул глаз, пробужденный и взбудораженный гулом бесчисленных слов, вобравших в себя здешнюю историю. В автобиографии он пишет, что не может ни забыть, ни выразить тогдашних чувств. Он был на развалинах Капитолия, когда босоногие монахи запели заутреню в храме Юпитера: тут его и озарила мысль воссоздать упадок и разрушение Рима.
Сначала громада замысла напугала его, решившего ограничиться историей независимой Швейцарии, которую он так и не закончил.
К этому времени относится один эпизод. Еще в начале XVIII века деисты заявили, будто Ветхий Завет — не божественного происхождения, поскольку на его страницах не упоминается ни бессмертие души, ни доктрина о будущих карах и наградах. Если не углубляться в некоторые неоднозначные пассажи, наблюдение в целом верное; Пауль Дейссен в "Philosophic der Bibel" (Философия Библии) позднее пишет: "Вначале семитские народы не подозревали о бессмертии души, оставаясь в этом неведении до самой встречи с иранцами". В 1737 году английский богослов Уильям Уорбертон опубликовал пространный труд под названием "The Divine Legation of Moses" (Божественное предназначение Моисея), где парадоксальным образом провозгласил, будто отсутствие каких бы то ни было отсылок к бессмертию — довод как раз в пользу божественной авторитетности Моисея, знавшего-де, что послан Господом, а потому не нуждавшегося в подпорках сверхъестественных наград или кар. В изобретательности автору не откажешь. Однако он не мог не понимать, что деисты выставят против него языческое наследие греков, где будущие кары и награды тоже не упоминаются, но это вовсе не доказывает его божественного происхождения. Спасая свой основной тезис, Уорбертон решил приписать систему посмертных отличий и мучений верованиям греков и принялся отстаивать мысль, будто именно в этом заключалось содержание элевсинских мистерий. Демет-ра потеряла свою дочь Персефону, похищенную Гадесом и, после многолетних поисков по всему свету, нашла ее в Элевсине. Таков мифологический исток тамошних обрядов; сначала они были земледельческими (Деметра — богиня плодородия), а потом, следуя метафоре, позже 'употребленной апостолом Павлом ("так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении"), стали символизировать бессмертие души. Как Персефона возвращается в мир из подземного царства Гадеса, так и душа воскресает после смерти. Легенда о Деметре рассказана в одном из Гомеровых гимнов, где, кроме того, говорится, что посвященный найдет в смерти счастье. Что до смысла мистерий, Уорбертон был, видимо, прав; иное дело — загробное великолепие, на которое и ополчился Гиббон. В шестой книге "Энеиды" рассказано о сошествии героя и Сивиллы в царство мертвых; по мысли Уорбертона, речь идет о посвящении законодателя Энея в элевсинские мистерии. Спустившись к Аверну и Елисейским полям, Эней выходит потом через ворота слоновой кости, которые отведены для ложных снов, а не через роговые, предназначенные для снов пророческих. Стало быть, либо ад в основе своей призрачен, либо нереален мир, в который возвращается Эней, либо герой (как, вероятно, и все мы) — только сон, химера. По Уорбертону, перед нами не иллюзия, а иносказание. Под видом вымысла Вергилий описал устройство мистерий, а чтобы остановить возможного злоумышленника или хотя бы сбить его с дороги, вывел героя через ворота слоновой кости, что, как сказано, обозначает обманчивость сна. Без этого двойного ключа получается, будто Вергилий счел видение, предрекающее величие Рима, простой выдумкой.