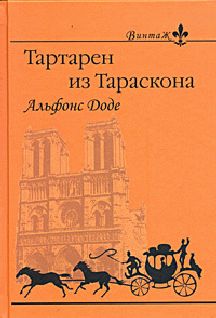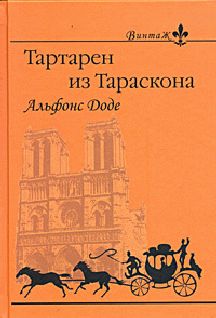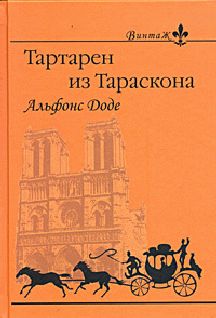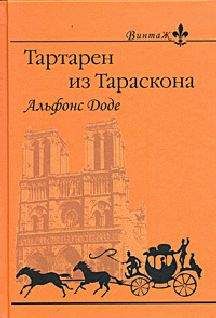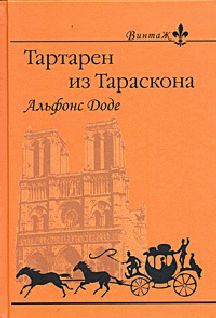Альфонс Доде - Тартарен на Альпах
„Капитану Бравидѣ — карабины, револьверы, охотничьи и малайскіе кривые ножи, томагауки и все иное смертоубійственное оружіе.
„Экскурбанье — всѣ мои трубки, мундштуки, кальяны, маленькія трубочки для куренія опіума.
«Костекальду»… — да, онъ не забылъ и Костекальда и ему завѣщалъ знаменитыя отравленныя стрѣлы, съ надписью: «не дотрогивайтесь».
Весьма возможно, что этотъ посмертный даръ былъ сдѣланъ не безъ затаенной надежды: авось либо предатель наколется отравленною стрѣлой и тоже умретъ. Но ничего подобнаго нельзя было вывести изъ содержанія духовнаго завѣщанія, заканчивавшагося возвышеннымъ и глубоко-трогательнымъ обращеніемъ:
«Я прошу моихъ дорогихъ альпинистовъ не забывать ихъ президента… Я прошу ихъ простить моему врагу, какъ я ему прощаю, несмотря на то, что онъ-то и есть виновникъ моей смерти».
Тутъ Тартаренъ вынужденъ былъ пріостановиться; цѣлый потокъ слезъ хлынулъ изъ его глазъ. Онъ съ поразительною отчетливостью увидалъ себя разбитымъ, изуродованнымъ, растерзаннымъ въ клочки у подножія высокой горы, — увидалъ, какъ кладутъ въ телѣжку и везутъ въ Тарасконъ его обезображенные останки… Такова сила провансальскаго воображенія! Онъ присутствовалъ на собственныхъ похоронахъ, слышалъ пѣніе, рѣчи, произносимыя на его могилѣ, сожалѣнія: «Бѣдняга Тартаренъ!…» — и, затерявшись въ толпѣ друзей, самъ себя горько оплакивалъ.
Но тотчасъ же видъ его кабинета, залитаго солнечными лучами, игравшими на блестящемъ оружіи и на рядахъ трубокъ, и веселое журчаніе маленькаго фонтана въ саду возвратили его къ дѣйствительности. На самомъ дѣлѣ: изъ-за чего умирать? Зачѣмъ уѣзжать? Что за неволя? Кто его гонитъ? Глупое самолюбіе!… Рисковать жизнью изъ-за президентскаго кресла и какихъ-нибудь трехъ буквъ!…
То была, однако, лишь минутная слабость, такая же мимолетная дань человѣческой немощи, какъ и невзначай пролитыя слезы. Черезъ пять минутъ завѣщаніе было дописано, вложено въ конвертъ, запечатано огромною черною печатью, и великій человѣкъ принялся за окончательные сборы въ путь.
Въ тотъ же день, когда часы на городской ратушѣ пробили десять, а улицы опустѣли и запоздалые гуляки, охваченные страхомъ, кричали другъ другу въ потемкахъ: «Добрый вечеръ… вы… кто тамъ»… и спѣшили захлопнуть за собою дверь, кто-то осторожно пробирался черезъ площадь къ аптекѣ Безюке, въ освѣщенныя окна которой можно было разсмотрѣть силуэтъ самого аптекаря, мирно спавшаго надъ Кодексомъ, облокотившись на конторку. Безюке принялѣ за правило каждый вечеръ вздремнуть часокъ-другой, чтобы быть бодрѣе въ томъ случаѣ, если бы кому-нибудь потребовались его услуги ночью. Между нами говоря, то была своего рода тарасконада, такъ какъ его никто никогда не будилъ и разбудить не могъ, — предусмотрительный аптекарь на ночь отвязывалъ проволоку у звонка.
Въ аптеку вошелъ Тартаренъ, нагруженный одѣялами, съ дорожнымъ мѣшкомъ въ рукахъ. Онъ былъ такъ блѣденъ, такъ разстроенъ, что аптекарь, подъ вліяніемъ игры туземной фантазіи, отъ которой не предохраняетъ и провизорство, воабразилъ, что случилоси нѣчто ужасное, и закричалъ благимъ матомъ:
— Несчастный!… Что съ вами?… Васъ отравили?… Скорѣй, скорѣй, эпекак… — Онъ заметался, рояяя стклянки и натыкаясь на ящики. Чтобъ остановить суетившагося друга, Тартаренъ принужденъ былъ обхватить его обѣими руками.
— Да выслушайте вы меня, чортъ возьми! — и въ его голосѣ звучала затаенная досада актера, которому испортили эффектный выходъ.
Продолжая придерживать аптекаря у конторки, Тартаренъ тихо проговорилъ:
— Безюке, насъ никто не слышитъ?
— Д… да, конечно… — отвѣтилъ аптекарь, озираясь кругомъ въ безотчетномъ страхѣ. — Паскалонъ спитъ (Паскалонъ — его ученикъ), мамаша тоже… Да что такое?
— Завройте ставни, — скомандовалъ Тартаренъ, не отвѣчая на вопросъ. — Насъ могутъ увидать съ улицы.
Безюке повиновался, дрожа, какъ въ лихорадкѣ. Будучи уже старымъ холостякомъ, онъ никогда въ жизни не разставался съ своею мамашей и до сѣдыхъ волосъ остался тихимъ и робкимъ, какъ дѣвушка, что отнюдь не гармонировало съ его грубымъ цвѣтомъ лица, толстыми губами, здоровеннымъ носомъ, огромными усами, со всею внѣшностью алжирскаго пирата прошедшаго столѣтія. Такія противорѣчія часто встрѣчаются въ Тарасконѣ, гдѣ головы удержали рѣзкія характерныя особенности римскихъ и сарацинскихъ типовъ, въ то время какъ ихъ обладатели заняты самыми безобидными промыслами и ведутъ тихую жизнь: люди съ физіономіями сподвижниковъ Пизаро торгуютъ въ мелочной лавочкѣ и мечутъ пламя страшными глазами изъ-за того, чтобы продать нитокъ на двѣ копѣйви, а Безюке, съ лицомъ разбойника Варварійскаго берега, наклеиваетъ ярлычки на коробочки съ лакрицей и на пузырьки съ siropus gummi. Когда ставни были закрыты, задвижки заперты и поперечные засовы задвинуты, Тартаренъ заговорилъ:
— Слушайте, Фердинандъ! — и тутъ онъ выложилъ все, что было у него на сердцѣ, высказалъ все негодованіе, которое въ немъ возбуждала неблагодарность согражданъ, передалъ обо всѣхъ низкихъ подкопахъ оружейника, указалъ на недостойную штуку, которую ему готовили на выборахъ, и открылъ, наконецъ, то средство, которымъ онъ разсчитывалъ поразить недруговъ. Но, прежде всего, надо все это держать въ строгой тайнѣ до поры до времени, и открыть секретъ лишь тогда, когда это окажется необходимымъ для успѣха дѣла, если только какой-нибудь несчастный случай, всегда возможный, конечно, какая-нибудь ужасная катастрофа…
— Да перестаньте вы, Безюке, высвистывать, когда я говорю о серьезномъ дѣлѣ!
Молчаливый отъ природы (большая рѣдкость въ Тарасконѣ), аптекарь имѣлъ, дѣйствительно, слабость сопѣть съ присвистомъ прямо въ лицо собесѣднику при самыхъ важныхъ разговорахъ. За молчаливость Тартаренъ выбралъ аптекаря повѣреннымъ своей тайны, а этотъ вѣчный свистъ звучалъ въ такую минуту какъ бы неумѣстною насмѣшкой. Нашъ герой намекалъ на возможность трагической смерти; передавая аптекарю конвертъ съ траурною печатью, онъ торжественно говорилъ:
— Тутъ мое завѣщаніе, Безюке… Васъ я избралъ моимъ душеприкащикомъ, исполнителемъ моей посмертной воли…
— Фю-фюитъ… фю-фюить… фю-фюить… — посвистывалъ, между тѣмъ, аптекарь, хотя и былъ въ глубинѣ души сильно взволнованъ и хорошо понималъ всю важность выпадающей ему роли.
Минута отъѣзда приблизилась, и онъ на прощанье предложилъ выпить за успѣхъ предпріятія — «чего-нибудь хорошенькаго… стаканчикъ элексира Garus». Поискавши въ нѣсколькихъ шкафахъ, Безюке вспомнилъ, что элексиры и настойки заперты у мамаши. Приходилось разбудить ее и поневолѣ сказать, кто пришелъ въ такую позднюю пору. Рѣшено было замѣнить элексиръ калабрскимъ сиропомь, невиннымъ лѣтнимъ питьемъ, изобрѣтеннымъ самимъ Безюке. Въ газетѣ Форумъ онъ давно уже помѣщалъ такое объявленіе объ этомъ сиропѣ: «Sirop de Calabre, dix sols la bouteille, verre compris». Чертовски злой и завистливый ко всякому успѣху, Костекальдъ подло перенначилъ это по-своему и говоритъ: «Sirop de cadavre, vers compris» [4]. Впрочемъ, эта отвратительная игра словъ только усилила продажу и тарасконцы въ восторгѣ отъ этого «sirop de cadavre».
Чокнулись, выпили, обмѣнялись еще нѣсколькими словами и обнялись. Безюке засвисталъ еще сильнѣе и оросилъ слезами огромные усы.
— Ну, прощай… прощай! — рѣзко проговорилъ Тартаренъ, чувствуя, что и у него подступаютъ слезы къ глазамъ, и поспѣшилъ выйти.
Но такъ какъ наружная дверь была заперта, то нашему герою пришлось пройти черезъ дворъ и выползть въ подворотню на брюхѣ. То было уже началомъ путевыхъ испытаній.
Три дня спустя Тартаренъ вышелъ изъ вагона въ Вицнау, у подошвы Риги. Онъ избралъ Риги для своего перваго дебюта, отчасти вслѣдствіе небольшой высоты этой горы (1,800 метровъ, приблизительно въ десять разъ выше тарасконской Mont-Terrible), а также и потому, что съ ея вершины открывается чудная панорама бернскихъ Альпъ, тѣснящихся вокругъ живописныхъ озеръ. Отсюда путникъ можетъ выбрать любую вершину и намѣтить ее своею киркой.
Опасаясь быть узнаннымъ дорогой и, чего добраго, быть выслѣженнымъ врагами, — онъ имѣлъ слабость думать, что во всей Франціи онъ такъ же извѣстенъ и популяренъ, какъ у себя въ Тарасконѣ;- Тартаренъ направился не прямо въ Швейцарію, а пустился въ объѣздъ и лишь на границѣ нацѣпилъ на себя все свое альпійское снаряженіе. Это онъ, впрочемъ, хорошо сдѣлалъ, такъ какъ едва ли бы смогъ въ такомъ видѣ пролѣзать въ вагоны французскихъ дорогъ. Но, при всемъ просторѣ и удобствѣ швейцарскихъ вагоновъ, нашъ алъпинистъ, обвѣшанный своими инструментами, къ которымъ не успѣлъ еще и привыкнуть, на каждомъ шагу давилъ ноги пассажировъ то киркою, то альпенштокомъ, зацѣплялъ на ходу людей желѣзными крючками, и повсюду, куда входилъ, — на станціяхъ, въ отеляхъ, на пароходахъ, — вызывалъ всеобщее смятеніе и громко выражаемое неудовольствіе. Всѣ отъ него сторонились, всѣ окидывали его непріязненными взглядами, которыхъ онъ не могъ себѣ объяснить. Его благодушная и сообщительная натура не мало выстрадала отъ такого отчужденія. А тутъ еще, какъ бы нарочно, чтобы доканать его, небо покрылось сѣрыми сплошными тучами и полилъ непрерывающійся дождь.