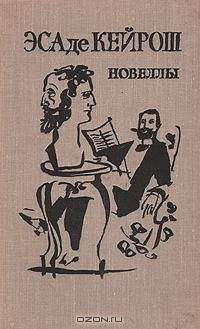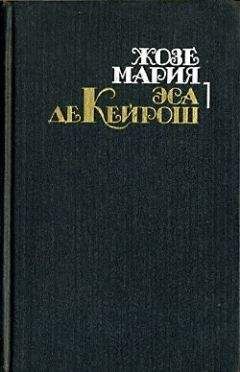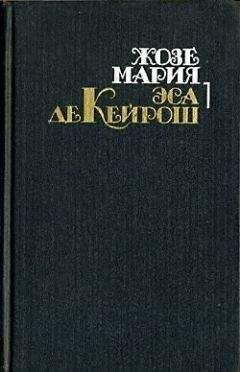Жозе Эса де Кейрош - Знатный род Рамирес
Из всех, кто спешит на выручку к отечественному Вальтеру Скотту, кроме дяди Дуарте, надо, пожалуй, особо отметить помощника провизора, скромного пекарского сына, но великого поэта Видейру, печатавшего любовно-патриотические стихи в «Независимом оливейранце». Сочинив героическое «Фадо о Рамиресах» и дополняя его все новыми куплетами, Видейринья-гитарист словно аккомпанирует литературным подвигам Гонсало и учит собственным примером, как надо воспевать древний и знатный род.
Таким образом, внутри романа о современности, который пишет Эса де Кейрош, параллельно основному потоку струится несколько ручейков, составляющих многоплановый фон. И поэма Дуарте, и фадо Видейры, и повесть самого Гонсало — это все вариации на тему о славном прошлом Рамиресов, кричащий контраст которому образует их бесславное настоящее. Для Гонсало потому и мучительна каждая попытка обмакнуть перо в чернильницу, служившую поколениям предков, что он как личность, как характер представляет собой противоположность тем, о ком собрался писать.
В отличие от трусишки Гонсало, герои его опуса — воплощение мужества и непреклонности. Рамирес XII столетия — натура цельная, верная представлениям века о рыцарской чести, и слово Труктезиндо крепко, как его рука и меч, нанесшие врагам тысячи ударов; стоит сравнить, например, трижды повторенный ответ гордого Труктезиндо «пусть я в ссоре с отечеством и королем, зато в мире с совестью и собой» с отречением Гонсало от слова, данного Каско, чтобы ощутить всю резкость контраста.
В отличие от Гонсало, уже не знающего, что такое принципы, Труктезиндо еще не ведает, что такое компромисс: если первый, по сути, торгует своей сестрой, то второй жертвует погибающим на глазах сыном Лоуренсо, отвергая Лопо де Байона как жениха дочери Виоланты.
Нет нужды в других примерах, которые подтверждали бы, что, подводя свой пиитический итог деяниям Гонсало, Видейринья-гитарист имел основания спеть под окном, где сохло кухонное полотенце, свое хвалебное фадо:
Род Рамиресов великий,
Цвет и слава королевства.
Комментарий к трудам и дням героя, составленный куплетами младшего провизора, поэмой дяди Дуарте и «собственной», в поте лица рожденной повестью не только многопланов, но и многозначителен. Переплетая, разрывая и вновь связывая эпизоды XII и XIX столетий, Эса де Кейрош меньше всего проповедует возврат к феодальным нравам. Он историчен, и его ирония в равной степени поражает прошлое и настоящее. Постоянно сталкиваясь, они развенчивают друг друга — грубая сила и утонченное бессилие, варварская мораль и цивилизованный аморализм. В том-то и глубина Эсы, что, выходя за пределы чисто нравственного сопоставления Труктезиндо и Гонсало, он разоблачает и рыцарский принцип и буржуазный.
Нынешний Рамирес по-своему тоже «верный рыцарь». Переменчивый, как ветер, мягкий, как воск, в руках случая и обстоятельств, Гонсало достаточно упорно преследует одну цель — собственную выгоду. Он вполне последователен, обманывая Каско, склоняясь на брак с доной Аной, играя на струнах, все еще притягивающих Кавалейро к Грасинье. И он вовсе не изменяет «генеральной линии» буржуа, когда из яростного «возрожденца» превращается в правоверного «историка». Перебежка из лагеря либеральной оппозиции в стан правящей партии естественна, коль скоро задача сводится лишь к тому, чтобы пробраться в среду «акционеров»; только не надо оценивать эту перебежку с позиций моральных — о ней надо судить по закону рентабельности.
Этот в высшей степени реальный, постоянно действующий закон устанавливает, что, продаваясь и продавая, Гонсало не поступает беспринципно. Напротив, именно забывая о совести, он проявляет «принципиальность». И если заслуживает упрека, то разве лишь за то, что идет по «законной» дорожке недостаточно нагло и решительно; что каждый раз, словно оступаясь, не делает последнего шага… Но как раз это обстоятельство бесконечно важно для понимания иронии автора. Острая, она в какую-то минуту лишается злости и щадит человека.
Как ни глуп Жозе Барроло — «Жозе без Роли», — Эса не склонен над ним издеваться. Он полон к нему удивительной теплоты и прощает все недостатки за одно, но высшее, как он убежден, качество — доброту. Каким бы праздным лентяем ни был Титу, осушающий в один присест бочонок вина, Эса никогда не взглянет на него сурово — именно потому, что этот баран и пожиратель баранов добродушен и бескорыстен.
Есть в романе рассуждение, перерастающее в философию доброты и программное для автора: «Встретишь иной раз человека без сучка и задоринки, — говорит мудрый и кроткий падре Соейро, — все у него правильно, все как надо — Катон, да и только, а никому он не нравится, никому он не нужен. Почему? Да потому что он никому ничего не дал, ничего не простил, никого не приласкал, не послужил ни одному человеку. А другой — непоследователен, беспечен, полон недостатков, во многом виноват, не всегда помнит о долге, даже преступает закон… И что же? Он щедр, добродушен, услужлив, для всех у него найдется доброе слово, ласковый взгляд… Люди любят его. И мне кажется — да простит меня господь, — что и бог его больше любит…»
Эса так много прощает своим героям, что его доброта иной раз переходит в излишнюю мягкосердечность. С политической точки зрения был бы важен как раз беспощадный разгром Кастаньейро, — в сущности, воинствующего шовиниста. Но чересчур ласковый взгляд Эсы обнаруживает вместо реакционного идеолога попросту тощего и бледного малого в темных очках, чиновника из отдела распространения бюджетных средств, явно без гроша в кармане. По мнению автора, этот подвижник с костлявыми руками в люстриновых нарукавниках, решивший оглушить мир криками о величии Португалии, — оглушен же мир рекламой мыла «Конго»! — настолько жалок и бессилен, что, право же, заслуживает снисхождения.
Только к могущественному Андре Кавалейро да к старухам Лоузада ирония Эсы не знает жалости — и именно потому, что блистательный генеральский сын и устрашающе девственные генеральские дочери сами лишены сердца. Сколько бы усердия и ловкости ни проявил губернатор в управлении Оливейрой, чаша его ослепительных, как манишка, добродетелей, не перетянет тщательно скрытых пороков. И сколько бы упущений по части нравственности ни сумели вынюхать в Оливейре остроносые ведьмы Лоузада, Эса всегда останется на стороне добрых грешников, а не злых праведников.
Демократичная и человечная, ирония Эсы словно напрягает усилия, чтобы подняться над узкосословной — буржуазной и феодальной, мещанской и дворянской — моралью. С высоты своего европейского кругозора Эса, как Гулливер, наблюдает за битвами «остроконечников» — «историков» и «тупоконечников» — «возрожденцев». Он оценивает местные происшествия и страстишки «политических борцов» Оливейры масштабом всемирно-исторических идеалов и событий. Контраст великого и ничтожного, противоречие между грохочущими потоками обесцененных слов и болотной застойностью провинциальной жизни составляет суть и главный прием его иронии. Но, в отличие от Гулливера, Эса все-таки сохраняет чувство кровного родства с лилипутами.
В первую очередь мягкость, доброта, сознание нерасторжимой социально-классовой близости и приводят к оправданию Гонсало. Вопреки своему призыву к «грубой и жестокой правде», автор льстит своему герою. Эса слишком любит его, слишком много возлагает на него надежд, чтобы решиться на приговор, с неумолимостью вытекающий из обстоятельства дела. Он не хочет ставить крест на Гонсало как на личности и предпочитает в последнюю минуту изменить обстоятельства.
Поэтому благородный дон Рамирес отправляет забывшегося плебея Каско в каталажку всего лишь на одну ночь и за это короткое время успевает проявить спасительную доброту к его больному младенцу; соответственно, арестант, еще вчера готовый убить фидалго, назавтра клянется пожертвовать за него жизнью, и в торжественный час выборов возглавляет колонну избирателей.
Поэтому же Гонсало не женится на доне Ане, вопреки усилиям кузины Марии. На роковом пороге честный Тито сообщает, что отнюдь не мраморная Венера имела любовника, — и одной фразой вынимает из кармана нравственного португальца двести тысяч.
И по той же причине оставлено в неизвестности, преступил ли запретную черту Кавелейро, находясь в беседке с Грасиньей; единственный очевидец свидания — старинный диван — был символически предан огню, а вместе с дымом от огня улетучилась и столь сомнительная для чести Гонсало любовь грациозной Психеи к могучему Марсу. Кроме того, спасая гордость Рамиресов, Эса заставил Гонсало отвергнуть титул «маркиза Трейшедо», который губернатор выпросил у короля, чтобы этой подачкой отблагодарить потомка Труктезиндо за покладистость.
Эса, однако, понимает, что осторожной недоговоренности, обхода острых углов и всех прочих усилий при освещении событий частной жизни все-таки маловато для оправдания героя, избравшего путь общественного служения; нужны достойные поступки на гражданском поприще, только тогда реабилитация станет возможной. Поскольку ни «историки», ни «возрожденцы» не в состоянии открыть перед Гонсало перспективу разумной и честной деятельности, автор ищет третий, на его взгляд, более верный путь. Соглашаясь с гитаристом Видейриньей, который однажды скромно заметил: «…такое уж дело — политика… сегодня оно белое, завтра оно черное, а послезавтра — глядь! — и вовсе ничего нет…» — Эса побуждает своего героя понять, насколько мелки его притязания на парламентский мандат и мечты о власти.