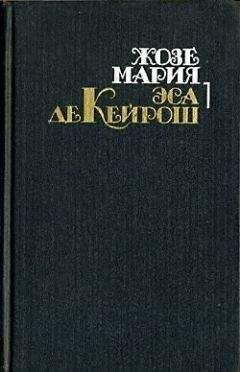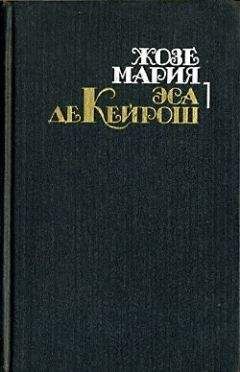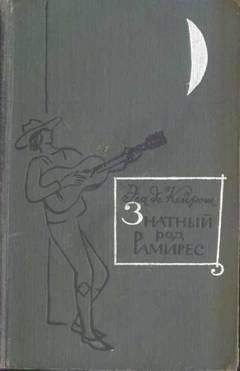Жозе Эса де Кейрош - Новеллы
На последних, присыпанных сахарной пудрой страницах романа — и повести, лежащей в его основе, — сказался настрой того поколения европейской интеллигенции, которому на исходе века казалось: революционные взрывы 1848 года и Парижской коммуны отошли в область воспоминаний, 1789-й — событие давно отгремевшего прошлого, мирные времена утверждаются в Европе навечно.
«Эпохальные» объяснения большей частью справедливы и всегда недостаточны: исторические причины, общие для художников одного поколения и одной страны, одного города, еще не дают разгадки, отчего каждый художник старается выстроить дом свой по-своему.
Только ли особенности развития Португалии виновны в том, что в «Цивилизации», в «Городе и горах» уксус социальной иронии порядком выдохся? Не лежит ли немалая часть вины на писателе?
Дипломатия, когда-то распахнувшая перед Эсой большой мир, теперь ограничила его кругозор, ибо стала общественной позицией. Профессия и карьера не могли не сказаться на творчестве: поддерживая порядок, пусть только левой рукой, трудно ниспровергать его правой. Тем более что ярость ниспровержения не всегда же резонней сдержанности компромисса.
Большей частью Эса отрицает в повести не прогресс, не цивилизацию, а их крайности. Он против кулинарных изысков и явных излишеств в сервировке, но не против здоровой пищи и тарелок; однако же его призыв к умеренности зачастую не свободен от ретроградства. Допустим, сломался фонограф и записанный на нем голос советника Пинта Порто без конца повторяющий: «Великолепное изобретение! Кого не восхитят успехи нашего века?» — это издевка над изобретением и успехами века. Но изобретение действительно великолепное, и успехи века налицо, а фонограф надо попросту починить или заменить на лучший. Спасение от прогресса в прогрессе, дороги назад нет.
Но почему же призывы «назад!», «осади!» раздаются на всех широтах? Почему ностальгия по мнимоидиллическому прошлому — постоянный спутник цивилизации? Много раз теоретически опровергнутая, тоска по естественности и простоте живет, получая подтверждения, что в давних и современных призывах к натуре — каждый раз иная, но немалая и достаточно веская правда.
Какой бы сюжет ни разрабатывал Эса де Кейрош, в какой бы форме ни воплощал свою идею — в форме античной или средневековой легенды, философской притчи или бытового рассказа, — он остается художником чуткого сердца и живой мысли.
История о том, как трое братьев, самых оборванных дворян в Астурийском королевстве, нашли сундук, до краев наполненный золотыми добранами («Клад»), как, боясь поделить клад и ожидая — от каждого каждый — коварства, умертвили друг друга на самом пороге сказочного богатства, — разве эта стилизованная легенда всего лишь история? Романтическая формально, она реалистична и современна по сути. Это емкая притча, и читатель вправе увидеть за ней хоть все человечество, склонившееся над сундуком с золотыми добранами культуры и лежащих у ног богатств.
На средневековый сюжет написана и «Кормилица». Зачин ее: «Жил когда-то король, юный и отважный…» — повторяет такой же фольклорный зачин «Клада»: «Жили-были в Астурийском королевстве…» Но и эта сказочка не стареет, как не стареет подвиг самопожертвования и верности, отваги и любви. Как не стареют подвиги Одиссея, рассказанные Гомером и в который раз заново читаемые потомками.
По гомеровской канве Эса вышивает собственный узор. В новелле «Совершенство», тяготеющей к философской притче, пребывание Одиссея у богини Калипсо — повод для утверждения высокой и мудрой истины: удел, достойный человека, — не безмятежный покой, а жизнь, требующая труда и мужества, борьбы и страданий.
Ослепительно хороша и вечно прекрасна богиня Калипсо. Как может сравниться с нею, конечно, увядшая, удаленная годами и расстояниями Пенелопа? Смертная в сравнении с бессмертной — как чадящий светильник с чистыми звездами. Во владениях богини Одиссей совершает прогулки по долинам, не знающим увядания. Ни сухого листка, ни поникшего цветочка не встретил он за восемь лет, пока богиня пыталась усладить его всеми яствами и осчастливить своей нежной любовью. Но Одиссею невыносимы уже и покой и радости, которыми одаривает его Калипсо. Не будь у него супруги, сына и царства, не знай он тоски по прошлому, все равно Одиссей рвался бы из этого рая туда, где слезы и боль, нищета и грязь, где не одни лишь празднества, а будни и опасность. Только в «несовершенстве», только в схватке с ним — жизнь и радость жизни.
Библейский миф об Адаме и Еве привлек писателя по мотивам, на первый взгляд сходным: миф обладает особой емкостью, в нем больше, чем концепция, в нем философия жизни… Однако между новеллой об Одиссее и чем-то вроде памфлета, эссе, написанного по законам художественной прозы, различие существенное.
«Адам и Ева в раю» — это в первую очередь опыт скептического прочтения библейского мифа, предпринятый мыслителем-атеистом, который вникал в труды Дарвина и прошел позитивистскую школу. В то же время это памфлет художника, духовный мир которого религия определяет не менее сильно, чем романтизм — несмотря на разрыв с нею, продолжавшийся как переход к реализму, как полемика с романтизмом, едва ли не всю жизнь.
Внутренняя связь «Адама и Евы в раю» с «Преступлением падре Амаро», с «Реликвией» очевидна; не в предисловии на ней останавливаться подробно. Здесь придется лишь подчеркнуть мотивы, особо важные для сборника рассказов.
Писатель задумал «Адама и Еву в раю» как антирелигиозный памфлет. Судя по его началу, праотец всех людей был создан «28 октября в два часа пополудни». Утверждает это не кто-нибудь, а знаменитейший Уссериус, епископ Митский, архиепископ Армахский, настоятель собора святого Патрика. Между тем Эсе доподлинно известно, что бог сказал «Да будет свет» 23 октября, а не 28-го. Иронично и описание «утра всех утр». Новехонькое, без пятнышек на сияющем лике, солнце, подобно жениху из «Песни песней», бежало вкруг земли восемь часов подряд, окутывая ее лаской тепла и света.
В этой же манере набросан портрет Адама.
Ах, бог его создал по своему образу и подобию?! Пожалуйста: шерсть покрывает все его тело, редея лишь на локтях и коленях. С приплюснутого, изрезанного морщинами лба свисают на уши редкие рыжие космы. В глазных впадинах, заросших, как отверстия пещер, кустарником, безостановочно вращаются, закатываясь от страха, шарики глаз. Когда ветер доносит острый запах сидящих на деревьях самок, Адам жадно втягивает его плоскими ноздрями, из мохнатой его груди вырывается сиплое хрюканье…
«Симпатяге-парню» соответствуют и пейзажи рая.
Занявшись импровизацией, Иегова превращает мирный холм в огнедышащий вулкан; Еву, искавшую насекомых в Адамовой шкуре, он сбрасывает вместе с супругом со склона, как со спины разъяренного животного; взревев, забурлив, заклокотав в ущельях, выбрасывая на поверхность мертвых тюленей, в пещеру, куда укрылись Адам и Ева, врывается море; Земля распахивается бездонной пастью, поглощая стада и пастбища, горлиц, воркующих на кедрах… А какова райская сушь! Мох слезает с горных склонов, словно сухая кожа с острых костей…
Вряд ли найдется педант, склонный приблизиться к этой живописи с критериями строгой науки. Но не увидеть серьезного замысла под фельетонным покровом было бы не меньшей ошибкой. Последовательно, пункт за пунктом, Эса набрасывает в своем опыте тезисы к древнейшей и вечно новой теме — происхождение человека.
Вот первые шаги по земле Существа, просидевшего свою многовековую зарю на ветках. Лес для него — темная стена ужасов. Шорох листвы — угроза. Его тянет на равнину, к берегу реки, а потом и моря. Вот после ягод и кореньев он впервые высасывает кровь «Ихтио», погибшего в схватке с «Плезио» — плезиозавром, слизывает жир с пальцев, ощущает вкус мяса. Убив медведя, совершает открытие, что заостренный посох — оружие. Затем другое, третье изобретение и обретение: копье, молоток, наконец, огонь. Собственные открытия совершает Ева, поначалу, как водится, более обаятельная, чем Адам. Праматерь не хуже супруга раздирает на части козленка, одну за другой вырывает из-под панциря лапы у черепахи. Но какова ее роль в прогрессе!
Лишь с помощью Евы бог сумел достроить мироздание, сотворя Царство Духа, без которого не появились бы домашний очаг, племя, город.
На этот раз цивилизация и прогресс — великое благо. Первопричина их — Сила Разума, которая вывела спотыкающегося на кривых ногах Адама из зарослей, избавила от дикости, утвердила в господстве над познаваемой природой.
Процесс познания Эса трактует почти материалистически. Именно потому, что лютое скопище райского зверья, отстаивая владычество Силы Инстинкта, ополчилось на бедного Адама, перед ним возникла необходимость противопоставить атакам инстинкта Силу Разума. Не будь ящеров и птеродактилей, гиен и гиппопотамов, земля так и осталась бы ужасающим раем, где покрытый шерстью Адам отыскивал на морском побережье выброшенную волной мертвечину. Не будь пантер и пещерных львов, не возникли бы города и вся цивилизация, которая родилась из отчаянных усилий человека найти защиту от всего, что лишено Души.