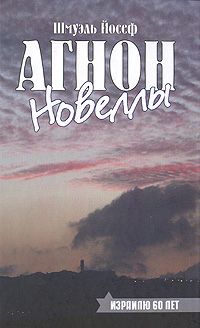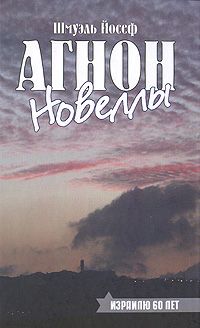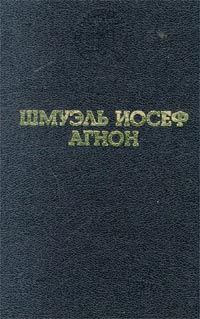Шмуэль-Йосеф Агнон - Во цвете лет
Как прекрасны кущи мои в дни Кущей! На ветви мы повесили красные фонарики и самую красивую утварь дома принесли сюда. И когда вешала Лия „восток“, упало кольцо с вышивки, и не смогла она повесить „восток“. Взяла она кольцо и надела мне на палец[29] и шелковым снурком из косы подвязала „восток“ и прочла: „Блажен, кто Тебя не забудет“, и я прочел следом: „и тот, кто посвятит себя Тебе“, и внезапно мы оба покраснели. Отец и мать глядели, и лица их сияли от счастья. И сидя со мной в кущах, величали меня: хозяин, а себя звали: гости. Семь раз на день приходила ко мне Лия в горницу — то еду принесет, то тарелки унесет. И возблагодарили мы Господа, что избрал он нас для любви.[30] Как хороша моя куща в дни Кущей. А сейчас полна куща бобов и гороха, потому что снял ее торговец бобами для своего товара. Оставил я дом свой, покинул горенку и снял себе комнату за городом. Жилище мое скромное и покойное, и старушка мне услужает. Еду мне готовит и белье стирает. Мир и покой вокруг, и нет покоя в душе моей. А господин Минц, что снял мою горенку, богат. Торгом по всей стране славится он, и ему посулил Лию отец Лии. А я бедный учитель, что я стою! А когда я пришел из столицы, приблизили меня. Ах, на словах приблизили, но сердца их далеки от меня. Как чужд мне обычай братьев моих!
Когда я учил Лию языку и книге, учил я ее и ивриту. Как радовались близкие ее, что святой язык учит. А сейчас позавидовал отец ее познаниям и удалил меня. Ах, сударь, дочь ваша мою науку не забудет, ибо стихи мои запомнит. Меня оставила,[31] но заветы мои исполнит.
Вышел я в город, увидел отца Лии и свернул с дороги. Побежал он за мной и догнал и сказал: что ты убегаешь, а мне хотелось с тобой поговорить. Мое сердце забилось. Знал я, что не собирается он меня утешить, и все же остановился я выслушать, ведь он — отец Лии и о ней говорить хочет. Посмотрел он туда и сюда,[32] увидел, что никого нет, и сказал: болезненна дочь моя, болезнь брата у нее. Я молчал и слова не молвил. А он продолжал свои речи и сказал: не родилась она для труда, и утомление плоти — смерть ей. Если не найду ей покоя, умрет она у меня. И сам он будто испугался своих слов и зачастил громко: а Минц богат, он ее вылечит, поэтому я ее и отдал ему. Он ее отвезет на целебные воды и все ее желания исполнит.
Ах, сударь, иной недуг в сердце вашей дочери, и его все целебные воды не исцелят. Я могу исцелить, а меня ты удалил.
И уходя от него, снял я кольцо, что дала мне Лия. Ибо обручена она с другим. И внезапный холодок пробежал по моему пальцу».
Завершились записи Акавии Мазала.
Дважды и трижды в неделю приходил отец мой в дом Готлибов. И ужинал с нами в саду. Сумерки покроют стол и приборы, и трапеза наша при свете светильников. И красные фонари семафоров железной дороги освещали нам ночь, потому что недалека железная дорога от дома Готлибов. Лишь изредка поминали там имя мамы. И когда вспоминала госпожа Готлиб маму, не заметно было, что мертвую поминает. Потом поняла я, как мудро она поступает.
А отец все время старался перевести беседу на покойницу маму. И иногда говорил он: мы, несчастные вдовцы. Странно было это слышать — будто умерли все женщины и все мужчины овдовели.
А господин Готлиб поехал в путь к брату, ибо так решил Готлиб: может, присоединится к нему брат, ибо богат он, и расширят они вместе парфюмерию. А Минчи, что остерегалась говорить о мужних делах, на этот раз сказала мне больше, чем собиралась. И внезапно, чтобы я забыла ее слова, рассказала она мне, как первый раз пришла в дом к своему свекру. Пришла она в дом к свекру, вошел жених ее, поприветствовал ее и ушел, и закручинилась Минчи, ибо учтивым было его приветствие. Она грустит, а он снова входит и бросается с поцелуями, а она отскочила, потому что обиделась. Не знала она, что приходил его брат, а лицом он точно как ее жених.
Каникулы стали приближаться к концу, и отец сказал мне: побудь здесь до вторника, а во вторник вечером я приду и заберу тебя домой. Сказал он и закашлялся. Налила ему Минчи стакан воды, и испил он. И спросила Минчи моего отца: простыли, господин Минц? И сказал отец: думаю я оставить дело. Мы еще дивимся словам его, а он добавил: если бы не дочь, сейчас бросил бы торговлю. Какой странный ответ! Да бросит ли человек свое дело из-за простуды? Мы не высказали своего беспокойства, а то и впрямь подумал бы, что он болен. Но госпожа Готлиб спросила: чем же займетесь? Книги писать будете? Мы все рассмеялись. Он, купец, деловой человек, сядет книжки писать!
Раздался гудок паровоза. Сказала госпожа Готлиб: через десять минут придет мой муж. И смолкла. Стихла беседа, мы все ждали его прихода. Пришел господин Готлиб. Минчи то и дело поглядывала на него и проверяла его взором. А Готлиб потер кончик носа и улыбнулся, как человек, собирающийся позабавить слушателей, и рассказал нам о своей поездке к брату. Он в дому брата, и жена брата с сыном сидит в зале. Взял он ребенка на руки и стал агукать и подбрасывать его. И оба они удивились, что пошел к нему мальчик, хоть и не видал его никогда. Так он забавлялся с малышом, и тут заходит брат. Посмотрел мальчик на него и на его брата, и его глаза так и забегали от одного к другому. Смотрит и удивляется. Наконец отвернулся ребенок и заревел изо всех сил и потянулся ручонками к маме, она взяла его на руки, и он спрятал лицо у нее на груди.
Я вернулась домой и снова пошла в школу. Нашел мне отец и учителя иврита, господина Сегала, у которого я училась долгое время. Трижды в неделю училась я ивриту. Один день учила Библию, один день — грамматику, и один день — письмо, потому что не любил Сегал перепрыгивать с предмета на предмет, и поэтому разделил на три части. Объяснял мне Сегал книги Завета и толкования ученых мудрецов от меня не скрывал. А по книгам учил мало, ибо уходило время на толкования и разъяснения. Много хорошего он мне рассказал, чего в книгах я не находила. И старался оживить язык наш в моих устах: скажу я что-нибудь, а он скажет: скажи это на иврите. Говорил он вычурным стилем прежних времен и радовался, если слова из речей пророков попадались ему на язык, ибо воистину знали пророки иврит. А больше всего я любила уроки письма. Тогда сидел себе Сегал спокойно, подперев голову рукой и закрыв глаза. Тихо-тихо читал он наизусть и в книгу не заглядывал. Как музыкант, что играет в ночной тьме от полноты сердца и не смотрит в ноты, лишь то, что душа просит, играет — так и мой учитель.
Плату за учение отец положил ему три серебряных талера в месяц. Я давала ему деньги украдкой, а он пересчитывал деньги у меня на глазах и говорил: я же не врач, чтобы мне давали деньги украдкой, я рабочий и платы за труд не стесняюсь.
А отец работал беспрерывно. И вечером не отдыхал. Я лягу, а он сидит при свете лампы, и иногда и утром я вижу: горит перед ним лампа, потому что от расчетов забывал он погасить лампу. И мамино имя не поминал более.
В канун Судного дня Иом Кипура купил отец мой две свечи. Одну свечу, свечу жизни, зажег дома, а другую, за упокой души, поставил в молельне. И когда взял он поминальную свечу отнести в молельню, сказал он мне: не забудь, завтра день поминовения душ усопших. Голос его дрожал. Я подошла и поцеловала его руку. И пришли мы в молельню, и посмотрела я вниз с балкона на молящихся, что поздравляют друг друга и прощения друг у друга просят, и увидела: стоит отец перед человеком без молитвенного плата.[33] Узнала я Акавию Мазала, и слезы выступили у меня на глазах.
Певчий-хазан пел «Отпусти все обеты», и голос его все нарастал. Свечи разгорелись, и дом полон света. Люди ходили меж свеч, и лица их укрыты. Как люба мне святость этого дня! Молча вернулись мы домой, не говоря ни слова. Звезды небесные и свечи в домах озаряли наш путь. Пошли мы через мост, потому что отец сказал: давай постоим над водой, у меня горло полно пыли. Ночные светила сверкали из воды в лицо звездам небесным. Месяц показался меж туч, и тишина струилась от вод. С небес слал Господь тишь. Никогда не забуду эту ночь. Пришли мы домой, и свеча жизни качнулась нам навстречу. Помолилась я и уснула до утра. Утром пробудил меня голос отца, и пошли мы на молитву. Небеса покрылись белым пологом, которым покрывается твердь осенью. Деревья сбросили свои пурпурные листья, и старухи собирали листву. Из крестьянских изб валил дым из сухой листвы, горящей в их печах. Люди в белых одеяниях сновали по улицам. Пришли мы в молельню и помолились. А между службами встречались во дворе молельни.[34] И каждый раз спрашивал отец, не трудно ли мне поститься. Как смущал меня голос отца!
В праздник Кущей я почти не видала отца. Я училась в польской школе, и на праздник нас не отпустили. А когда я возвращалась из школы к обеду, отец с соседями сидел в кущах: и я ела дома одна, затем что нет для женщин места в кущах. Но зимние дни примирили нас. Вечером мы ужинали вместе и при свете одной лампы вершили наши дела. Лампа светила, и тени наших голов сливались воедино. Я делала уроки, а отец проверял счета. В девять приносила Киля три стакана чаю: два отцу и один мне. Тогда отставлял отец счета и перо менял на чашку. Одну чашку выпьет горячей, а в другую положит сахар и выпьет остывшей, а затем мы возвращаемся к нашим трудам. Я — к урокам, а отец — к счетам. А в десять встанет отец, погладит меня по голове и скажет: а теперь почивать, Тирца. Как я любила это «а», всегда оно меня радовало, будто слова отца — продолжение его мыслей обо мне. Мол, раньше он про себя говорил со мной, а сейчас вслух. И говорила я отцу: если ты не идешь спать, то и я не пойду спать, буду с тобой сидеть, пока не пойдешь почивать. Но отец не слушал меня, я ложилась спать. А когда просыпалась, он сидел за столом, и счетные книги разложены по столу. Встал ли он спозаранку, или не ложился всю ночь? Не спрашивала я, а потому и не знаю. Каждый вечер я думала: пойду-ка я и поговорю с ним по душам, может, послушается меня и отдохнет. Не успею встать, как сон берет верх. Знала я, что отец хочет оставить дела, поэтому и работает вдвойне. Порядок наводит в счетах. Что потом собирается делать, я не спрашивала.